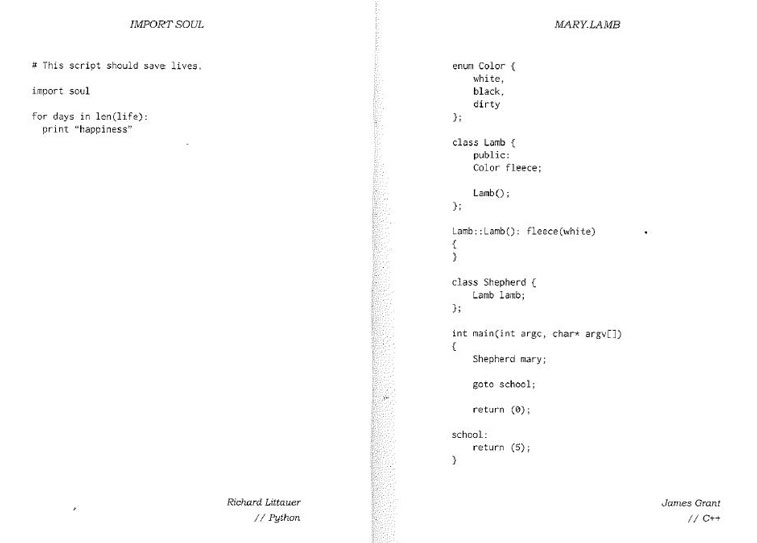Книгу Ольги Баллы «Время сновидений»iМ.: Совпадение, 2018. читаю понемногу, по капле, потому что такая концентрация смысла в этой книге, что много нельзя, задохнешься. Каждая фраза требует остановки, каждая — настолько полна смыслом, что кажется, продолжение невозможно. На самом деле, возможно вполне. Балла пишет о детстве и старости, о границах своего и чужого, о темной стороне чтения как форме агрессии к окружающему миру, о взрослении как форме отношения с обыденностью. Вообще больше пишет о форме, чем о содержании своего отношения с миром, о том, как они, эти отношения, строятся на глубине, где воздуха идей уже нет, но где пребывает тяжелая вода внесловесного опыта.
По форме высказывание Ольги Баллы ближе всего к исповеди, это попытка рассказать о самом главном, таком личном, что никто и не поймет, пожалуй.
Из этого личного изгоняется все, что имеет отношение к простым фактам: что, где, когда? И даже «в чем причина»? Вот уж, казалось бы, разве возможна рефлексия без налаживания многослойных причинно-следственных связей? Оказывается — возможна.
Одной из культурологических утопий XX века была утопия чистого искусства, чистой поэзии, некой квинтессенции «поэтического». Потом стало неактуально… Ольга Балла в своей книге работает с феноменом «чистого опыта», ищет химически чистую квинтэссенцию подлинности. В этом опыте широко представлена категория «инаковости», но нет фигуры того самого «другого», который был бы ее носителем. Других людей нет вообще. Автор погружен в тотальное одиночество. Только стены, проспекты, поезда, города, ветер, книги. Кто их написал? О чем они? Неважно. Важно другое: тяжесть фолианта в руке, запах пыли, шероховатость переплета и память о памяти, которая опрокидывает в несловесный опыт.
Первое погружение — в детство. Ключевой образ — мир качается под ногами.
Ключевое чувство — неожиданно — страх: «Каждая мелочь свинцовотяжела от сгущения в ней мирообразующих сил. Тайными силами бытия пахнут свежераскрывшиеся майские листья, улица после дождя, внутренность чужого подъезда (как страшно!). Все крупно, потому что близко. И все — хоть немного да страшно: ни о чем никогда не знаешь вполне, чем оно обернется».
«Детство — чувство реальной волшебности мира <…> Из каждой точки могут вести — да и ведут — темные ходы неизвестно куда».
По большому счету тема — особое состояние сознания в детстве — избита до полусмерти, но у Ольги Баллы, благодаря неожиданной болезненности этого опыта, да и, видимо, благодаря первичности, подлинности, абсолютной нелитературности высказывания, она звучит как открытие, которое со страшной силой начинает резонировать… И вот я невольно оглядываюсь на свое детство и понимаю, что у меня все совсем не так, но тоже страшно.
Ключевой образ — отсутствие. Ключевая эмоция — безразличие. В детстве меня просто нет. То есть сохранились воспоминания, иногда довольно определенные. Но человек, которому они принадлежат, совершенно не воспринимает различие между добром и злом. Не может ответить на вопрос: мне сейчас холодно или жарко, больно или страшно? Я вспоминаю такие вещи, что случись они со мной сейчас, я бы умерла, наверное. А маленькая девочка живет и даже не понимает, что что-то, наверное, пошло не так. И как это олимпийское спокойствие контрастирует с подростковым периодом, который у меня случился довольно поздно, лет в 16−17, когда каждое слово ранило насмерть.
Следующие погружение — нет, не в молодость и не в старость, и вообще не в возраст, в чистую материю опыта, которая есть производная от очень высокой степени абстрактности, такой, что сразу даже не поймешь, о чем речь, но почувствуешь — сразу. И опять чужой опыт погружения в реальность срезонирует и заболит, как будто все плохое, что с тобой случилось в жизни, случается вновь, здесь и сейчас. «Жизнь — постоянная выработка прошлого. Как своего рода внутреннего топлива», «Предметом тоски может стать что угодно — было бы оно в прошлом. Тоска — это же чувство недостатка бытия (что такое вожделенное «будущее», как не запасы бытия?)».
И тотчас понимаешь, что из моего-то прошлого никакого топлива не получишь. Если посмотреть на мою жизнь сквозь призму смысла, нет, не высшего, а самого обыкновенного, найдется ли там хоть что-то, на что можно было бы опереться, сказать, что это не было ошибкой? Очень немного таких событий, если говорить не о внешней, а о внутренней жизни. Нет, пожалуй, ни одной ситуации, из которой я бы вышла без тяжелых внутренних потерь. И нет граблей, на которые я бы не наступила по нескольку раз. Случись еще — и опять наступлю… Какая уж тут зрелость, какая старость?
Какая-какая, а вот такая: «В поздней молодости, в одной из отчаянных ее ситуаций, говорила я, — пишет Ольга Балла, — не без гордыни и рисовки, что у меня нет пола и возраста <…> Зато теперь возраста у меня хоть и нет <…> а старость есть — по крайней мере, точно будет. Оказывается, так бывает. Старости все равно, есть у нас возраст или нет. Она, как смерть, — приходит и забирает».
Бестрепетно всматривается Ольга Балла в процесс убывания бытия, с таким же жадным вниманием присваивает себе опыт смерти, как до этого всматривалась в опыт детства, последний — расчеловечивая, первый — пытаясь соразмерить с человеческим составом своего существования. «Заговорить» этот опыт, приручить его предчувствие, чтобы он стал не страшным: «Старение — не (только) спуск, оно (и) подъем. В кристальную синеву, к космическому холоду. Летим». Нет, не получается… Не быть, не существовать все равно — страшно, бесчеловечно, несоизмеримо ни с чем. Против смерти нет другого лекарства, кроме бессмертия, или хотя бы его культурного аналога — чтения, которое, конечно, есть «разновидность самоутверждения», которая в чем-то сродни ушедшей и непрошедшей молодости, всегда готово возбудить в нас жажду бытия, новизны, экспансии. «И, с отвращением читая жизнь свою, я трепещу и проклинаю. А пережить это снова? Да. Хотела бы. И, по существу, уже переживаешь — сейчас».