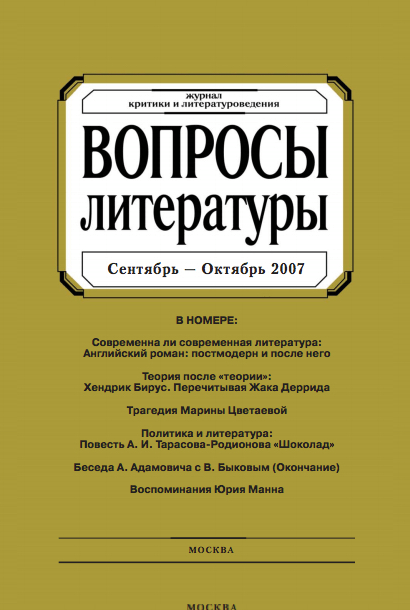За границами игры: английский постмодернистский роман. 1980 – 2000
Ольга ДЖУМАЙЛО
ЗА ГРАНИЦАМИ ИГРЫ:
АНГЛИЙСКИЙ ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ РОМАН. 1980 – 2000
Тщета к лицу постмодерну с его словесами и его псевдореальностью. И все же тщетность всего и вся не может заставить нас перестать вопрошать: как жить и зачем? <…> Вы не прекратите существовать оттого, что играючи все спишите на трюки и уловки…
Жан-Франсуа Лиотар. Постмодернистские байки
Питер Акройд, один из самых известных поборников английского постмодернизма, не устает от игровых ландшафтов. Его роман «Чаттертон» (1989) до головокружения разнообразен по части всяческих подделок и симулякров. Среди них есть и такая.
На картине-фальшивке ребенок перед разрушенным зданием. Лицо смазано, но мир вокруг отчетливо, в деталях, прописан – разодранные обои, разбитые трубы, брошенная мебель – все будто захвачено вихревым движением. Полотно это выдается за одну из последних работ Джозефа Сеймура (1824 – 1910). Позже читателю станет известно ее название – «Бристольский церковный двор после вспышки молнии», по-видимому указывающее на тот самый двор, где прошли ранние годы Томаса Чаттертона (1752 – 1770).
Далее еще не раз мелькнут образы полуразрушенной лестницы и безликой куклы. Но это уже другие времена: вторая половина XIX столетия, 80-е годы XX… И, наконец, «бедный идиотик» вновь возвратит нас к Чаттертону, который извлечет мальчика из-под ступеней лестницы разрушенного лондонского дома. Мальчик возьмет из его рук куклу без лица.
Элегантно и нескучно Акройд иллюстрирует священные мантры постмодернистской теории. Его слабоумный мальчик подчеркивает фиктивность «правдивого», нарочито реалистичного рассказа самого Акройда о Чаттертоне. Ведь совершенно очевидно, что «недавно скончавшийся» (относительно 1980-х) Сеймур не мог видеть мальчика безрадостным утром 1770-го, как не мог бристольский двор трансформироваться в лондонский. Но в духе постмодернистского «все идет» Акройд провозглашает: «Раз нет никаких истин, то истинно все». «Текст о мальчике-идиоте» заимствован, достоверный рассказ о ребенке будто сложен из уже упомянутых «цитат». Кому они принадлежат? Сеймуру? Мерку? Возможно ли, что это – «слабоумный мальчик» Вордсворта, стихи которого Акройд с легкостью приписывает Чаттертону?
Мальчик-идиот – образ из текста Акройда – фиктивен и реален настолько, насколько мы верим во всевластие пресловутой интертекстуальности. «Без слов, думает Чаттертон, не существует ничего. Не существует настоящего мира <…> Без слов ты пребываешь в ином времени. Ты существуешь в каком-то другом месте, где тебе спокойно» Мальчик назовет себя Томом и, подобно Томасу Чаттертону, обретет единственный (постмодернистский) статус существования – бытие в тексте.
Но почему же мальчик истошно кричит? О чем его вопль? Неужели что-то остается за пределами языка? Боль? Надежда? Страх? Само «смазанное» лицо мальчика, его безликая кукла, его бессловесность будто опровергают постмодернистскую легкость обращения реальности в вымысел, факта в искусство, чужого в свое, смерти в бессмертие, боли опыта в текст.
Мальчик-идиот – это эмблема тотальной непроницаемости мира для искусства игры, это увиденная Чаттертоном (и Акройдом) непознаваемость человеческого опыта в трагической неизбывности его надежд, его боли и его смерти.
* * *
…»Постмодернизм», сучковатое древо теорий, даровавшее упоительную свободу интеллектуалам предыдущего поколения, теперь переживает кризис среднего возраста <…> Что до шумной культуры постмодерна, мы видим, как она набирает обороты, почти в полном забвении всякой теории.
Кристофер Нэш. Постмодернистское мышление: разборная модель
Английский постмодернистский роман 1980 – 1990-х успешно эксплуатирует набор игровых стратегий, однако ни философские, ни формальные забавы постмодернизма не стали для британцев самодостаточными. Игра ради самой игры, тотальная ирония в эпоху утраты «больших нарративов» лишь заостряют внимание на «маленьких». Отголоски мучительных поисков новой исповедальности все так же пронзительно звучат со страниц романов Грэма Свифта, Салмана Рушди, Мартина Эмиса, Иэна Макьюэна, Питера Акройда, Кадзуо Исигуро, Джулиана Барнса, Дональда М. Томаса, Антонии Байетт, Анджелы Картер, Жанетт Уинтерсон и многих других писателей «печальной и испуганной эпохи» (С. Сонтаг).
В авторитетной работе 1994 года «Современный британский роман» Малькольм Брэдбери отмечал стилевую и жанровую многоголосицу, интертекстуальную игру с культурными кодами в английском романе уже как часть «протокола», заимствованного у американских постмодернистов. Да, литература постулирует свой фиктивный статус, авторы вторгаются в сочиненные ими же истории, художественная реальность смыкается с фактами реальной жизни, старые байки встречаются с новыми, а «высокая литература» – с распространенными среди широкой публики поп-стилями. Да, кажется, что это и многое другое, названное Дэвидом Лоджем «литературой на перепутье» (crossover literature), пришло надолго. Но критик не устает подчеркивать, что «постмодернистские штучки и убеждение в том, что теперь они пишут в постгуманистические времена, стали общимместом среди серьезных молодых авторов»1.
Почти десятилетие спустя в своей обзорной монографии «Кембриджское введение в современную британскую литературу, 1950 – 2000» (2002) Доминик Хид, констатируя «определенное влияние» некоторых атрибутов постмодернизма на творчество таких писателей, как Акройд, Рушди, Мартин Эмис и Картер, без стеснений и оговорок объявляет о присутствии морального и эмоционального начал в их творчестве: «…Роман, каким его создают вышеупомянутые авторы, возобновляет контакт с реализмом, становясь мостом, который позволил читателю связать текст и реальность. Если мы говорим о постмодернизме, который основан на трансформации реализма, а не на его отвержении, если этот постмодернизм способен вызвать эмоциональный отклик, невзирая на фокусы саморефлексии, тогда в Британии мы имеем дело с ним <…> Игровой (ludic) постмодернизм оказался невостребованным в британской художественной культуре»2.
Конечно, следует признать, что английский роман 80 – 90-х немыслим без теоретико-интеллектуального фона постмодернистских штудий. Но, как и в случае с британскими вариациями экзистенциализма 50 – 60-х, на островной почве философские посевы дали весьма разные всходы. Тексты эффектно иллюстрируют циркулирующие среди интеллектуалов теоретические идеи. «Водоземье» Свифта или «История мира в 10 1/2 главах» Барнса при определенном взгляде оказываются экспликациями концепции Ж. -Ф. Лиотара, а «Сатанинские
стихи» Рушди – известного исследования Хоми Бхаби «Dissemi-Nation».
Конечно, нужно помнить, что саморефлексивное начало в романе указывает не только на «письмо в осознании своих границ», невозможность выхода за пределы языковых игр, условность литературных рецептов, но и на то, что романная саморефлексия низлагает «власть» любого дискурса. Постмодернистскую метапрозу должно понимать не как безделку с «двойным кодированием», но как аллегорию радикальных философско-политических сомнений. В работе Пола Мэлби возникает даже звучащий несколько комично термин «диссидентская метапроза»3. По-видимому, именно эта грань художественной практики находит самое тесное соприкосновение с пресловутой «постмодернистской чувствительностью», понятием эпохальным и уже обретшим «легитимность» в работах Лиотара, Бодрийара, Джеймисона. Ироническое обнажение культурных брэндов и их использование в постмодернистском искусстве дает понять, что жизнь трансформировалась в стиль жизни, цитата – в утверждение, история – в предмет ностальгии, апокалипсис – в эффектную метафору, а современная литература – в «эстетический супермаркет».
И все же, не отрицая факта перехода культуры в принципиально иную формацию, важно не забывать о том, что составляет непосредственный контекст эпохи. Не отрицая блестящих теоретических идей, развиваемых на примере «войны, которой не было», также не стоит отрицать и того, что в действительности было, не стоит выносить за скобки, к примеру, сомнения в либеральных ценностях Малькольма Брэдбери, видения атомного апокалипсиса эпохи холодной войны Мартина Эмиса или католицизм Мюриел Спарк. По-видимому, самозабвенные философско-эстетические дискуссии о постмодернизме, достигшие своего накала в 80-е, могут встать в один ряд с другими, не менее важными факторами, определившими эстетику и проблематику романа этого времени. Социальные последствия политики Маргарет Тэтчер, мульти-культурное сознание британца, бесконечные поиски национальной идентичности, своего места внутри среднего класса, национальной и личной истории, не менее активные расследования тайн тендера – все это и многое другое оказалось… чуть больше, чем симулякрами.
Писатели не желают принимать ни «смерть романа», ни «смерть автора». Оставаясь «детьми постмодернистской полуночи», они создают воображаемые миры с надеждой на понимание своего места в реальности, своей судьбы в надтреснутом, еретическом, плюралистичном мире4. А когда злободневная проблематика займет свое достойное место в анализе постмодернистского романа, не позволяя все списывать на игры и симуляции, в его «децентрированном» центре по-прежнему будет невыразимое бытие страдающего человека.
Любопытны признания самых ярких представителей английского постмодернизма. Эмис, автор классического постмодернистского романа «Деньги», использующий, пожалуй, все 36 выделенных Б. Стоунхиллом способов саморефлексивного повествования5, отмечает в интервью: «Думаю, что все мы уходим от игрового, трюкового текста. Он подобен зданию с вынесенными наружу коммуникациями… Сейчас понятно, что это тупик»6.
За два года до выхода своего нашумевшего обозрения условностей и симуляций истории и культуры – романа «История мира в 10 1/2 главах» – Барнс находит единственные «постоянные величины – сердце и страсти человеческие»7. Джонатан Коу, автор одного из самых острых романов 90-х «Какое надувательство!», считает традицию исповедального письма, «истины, скрытой в личном опыте», частью эстетики 90-х8, а автор «Водоземья» Грэм Свифт признается: «…Эмоциональная сторона литературы для меня гораздо важнее. Я хочу, чтобы мои читатели приобрели опыт, чтобы текст их затронул. И если литература не ведет к истине, она должна вести к сочувствию и состраданию»9.
Вторят друг другу весьма разные писатели, также фигурирующие среди постмодернистского поколения 80 – 90-х, – Исигуро и Макьюэн: «Мне интересен литературный эксперимент только в той степени, в какой он позволяет раскрыть тему в ее эмоциональном объеме»10; «Я хотел играть, но играть серьезно с тем, что связано скорее с глубокими чувствами, не интеллектом»11. Примеров «оттепели» достаточно. При этом постмодернистские онтологические миры (термин Б. Макхейла) еще существуют, но вопрошают о них, страдают и умирают в них люди.
Для «гуманистического постмодернизма» неважно, существует ли реальность в реальности, или это 10 1/2 баек, важно фундаментальное человеческое вопрошание – переживание реальности опыта: надежд, утрат, любви, стыда, вины и смерти.
Такой поворот будто противоречит постмодернистским постгуманистическим подходам, априори требующим принципиального отказа от художественной и эстетической целостности. В этом отношении весьма симптоматична работа Анджея Газьорека «Британская литература второй половины XX века» (1995), в которой подчеркивается, что споры вокруг будущего британского романа в течение долгого времени велись с неизменной привязкой к оппозиции реализма и экспериментальной литературы, оппозиции, которую опровергает художественная практика большинства крупных романистов. В отношении же современного романа «…простое различение экспериментального и традиционного письма уже неуместно»12. Более того, минувшее десятилетие освободило и литературных критиков от необходимости присягать на библии постмодернистской теории. Если Эми Дж. Элиас и Кэтрин Бернард, называя романы Свифта, Эмиса и Барнса парадоксальными терминами «постмодернистский реализм» и «мета-мимесис», не забывают сослаться на Линду Хатчеон, то концепция «постмодернистской сентиментальности» Якоба Виннберга предлагается уже с опорой на Э. Левинаса.
В разной степени справедливая критика «постмодернистского эрзац-сознания» (Филип Тью) и в художественной практике, и в научных исследованиях последних лет обозначила усталость от игровых концепций13. Интеллектуально-философская перспектива в осмыслении британского постмодернистского романа, предложенная Хатчеон, Ли, Во, не отвергается, но все чаще уступает место размышлениям о «постмодернистском реализме», «британском магическом реализме», постмодернистском романе с мифопоэтическими элементами и пр. Речь вновь и вновь идет о целостном опыте человеческого бытия.
«…Мы уже не испытываем острого наслаждения, наблюдая, как низлагаются старые жанры, как они перекраиваются и модернизируются. Вопрос в том, что от этого интеллектуального упражнения в конечном счете окажется полезным <…> Нам остается жизненный опыт. Опыт, обогащенный впечатлениями от постоянной смены зеркал в галереях культуры»14.
Совершается значимый а-постмодернистский поворот к жизненному опыту. Во введении к сборнику с красноречивым заголовком «Дорогу новым пуританам» (2001) ставятся под вопрос классические постмодернистские приоритеты. Авторы призывают уйти от игры с жанрами и найти опору в жизненном опыте. Хотя и не открыто противопоставленный постмодернистскому, пафос статьи сосредоточен на необходимости создания в художественных текстах узнаваемого мира и современной этики. Все это говорит об «отходе от гетерогенности и деконструктивистской децентрации, движении в сторону постигаемых смыслов»15.
Немаловажно и то, что общая тенденция при обращении к сфере этико-эмоционального постмодернистского опыта связана с различением постмодернизма как набора влиятельных идей (развиваемых на основе трудов Деррида, Лакана, Делеза, Бодрийара, Лиотара, названных Кристофером Нэшем «великими поэтами второй половины XX века») и актуального опыта постмодернистского «здесь и сейчас». Так, один из родоначальников постмодернистской критики 80-х Ихаб Хассан в интервью отмечает: «…[я интересуюсь] тем, как происходит обретение связей или, скорее, возвращение к теме отношений между духовными побуждениями человека и его повседневным бытием в культуре иронии, китча и неверия <…> обнаружением связующего звена между духовным началом, нигилизмом и языком»16. И напротив, целый ряд исследователей, почти механически экстраполирующих постмодернистские теоретические посылки на тексты (преимущественно американских авторов), приходят к «прогнозируемым» выводам: «с исчезновением самой реальности невозможно иметь эмоции, возникающие в реальности подлинной»; «эмоции в постмодернизме <…> не отражают внутреннюю сущность или саму основу экзистенции персонажа. Скорее, они указывают на поверхностный план персонажа»; «постмодернистская литература не вызывает ни слез, ни эмоций»17 и пр. Последовательны выводы Ли, Во или Макхейла, который, к примеру, рассуждает о любви и смерти в постмодернистском романе, наблюдая структуру металепсиса18. Британцы продолжают оставаться внутри postmodernity, они так же взыскательны в отношении критика, способного заметить их кроссворды и шарады, но интертекстуальность и постмодернистское «все идет» остаются лишь знаком культурной осведомленности.
Начиная с 80-х, времени заметного поворота британцев к реальности личного опыта, подчеркнутая конструктивность рассказа (пастиш, система двойничества, «структура замыкания», саморефлексия, легко узнаваемые цитаты и пр.) скорее указывает на отчаянные попытки эскапизма рассказчика в игры со словом. Он будто прячет свою личную травму за игровыми постмодернистскими конструкциями, проговаривает личное в бессчетном количестве чужих дискурсов, трансформирует неизбывную боль в языковой конструкт. В игровых романах звучит голос человеческого страдания, молящего о забвении боли и хаоса мира в слове.
В противовес ироничному термину постмодернистская чувствительность в целом ряде работ последнего времени возникает альтернативный ряд определений постмодернистского мирочувствования. Вопреки растиражированным представлениям об отсутствии эмоционального, личностного, этического начал в постмодернизме, появляются исследования об эстетике ранимости, постмодернистской сентиментальности, эмоциональных ресурсах, нарциссизме и насилии в постмодернистской культуре19. Симптоматично и то, что ученые, имеющие весьма разные методологические пристрастия и исследовательские цели, отмечают на первый взгляд парадоксальную ранимость постмодернистского «Я»20.Экзистенциальная перспектива понимания ранимости открывается Марком Ледбеттером, который утверждает, что телесная метафора призвана вернуть условный постмодернистский мир исключительно интеллектуального опыта к экзистенции опыта реального: «Все, от небольшого шрама на коленке, который напоминает нам о падении в детстве, до огромного шрама в наших сердцах, напоминающего о смерти родителей или супруга, все это делает нас нами, позволяет обрести себя через осознание боли»21.
«Эстетика ранимости» в центре монографии Виннберга «Эстетика ранимости: новые грани сентиментальности в романах Грэма Свифта» (2003). И хотя масштаб работы и ее выводы дают иную перспективу понимания феномена ранимости, обращение к «духовному и этико-эмоциональному измерению в постмодернистском художественном осмыслении мира»## Winnberg J. Op. cit. P. 5. Опираясь на эстетико-философские труды Э.
- Bradbury M. The Modern British Novel. London: Seeker & Warburg, 1994. P. 407.[↩]
- Head D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950 – 2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 229 – 230. [↩]
- Maltby P. Excerpts from «Dissident Postmodernists» // A Postmodern Reader / Ed. by J. P. Natoli and L. Hutcheon. N. Y.: State University of New York Press, 1993. [↩]
- И здесь нет противоречия, ибо, как нам подсказывает перевод из классика, «постсовременное знание <…> оттачивает нашу чувствительность к различиям и усиливает нашу способность выносить взаимонесоразмерность»(Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с франц. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 1998. С. 12).[↩]
- Stonehill B. The Self-conscious novel. Artifice in Fiction from Joyce to Pynchon. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988. P. 30 – 31.[↩]
- Reynolds M., Noakes J. Interview with Martin Amis // Reynolds M., Noakes J. Martin Amis. London: Vintage, 2003. P. 17.[↩]
- McGrath P. Julian Barnes // Bomb. 1987. N 21. P. 22.[↩]
- Coe J.«Introduction» to B. C. Johnson. Цит. по: Johnson B. S. The Unfortunates. London: Picador, 1999. P. XIV – XV.[↩]
- Цит. по: Winnberg J. An Aesthetics of Vulnerability. The Sentimentum and the Novels of Graham Swift. Göteborg University, 2003. P. 177.[↩]
- Mason G. An Interview with Kazuo Ishiguro // Contemporary Literature. 1989. N 30. P. 346.[↩]
- Reynolds M., Noakes J. Interview with Ian McEwan // Reynolds M., Noakes J. Ian McEwan. London: Vintage, 2002. P. 19.[↩]
- Gasiorek A. Post-War English Fiction: Realism and After. London: Edward Arnold, 1995. P. 18 – 19.[↩]
- Все чаще критикуются влиятельные, почти канонические постмодернистские разборы. Фредерик М. Холмс, обращаясь к анализу Алисой Ли романа «Подруга французского лейтенанта», пишет: «В самом ли деле, это текст романа категорически не дает возможности для трактовки или идеология критика? Ли глубоко раскрывает саморефлексию в романе, которая приводит к растворению любых законченных трактовок в двусмысленной, ничем не ограниченной игре текста. Но эти противоречивые отсылки так же значимы и для понимания связи художественной реальности романа с правдой о неизбежности смерти и опыта существования»(Holmes F. The Historical Imagination: Postmodernism and the Treatment of the Past in Contemporary British Fiction. Victoria BC: University of Victoria, 1997. P. 15).[↩]
- Blincoe N., Thome M. Introduction: The Pledge. Цит. по: All Hail the New Puritans / Ed. by N. Blincoe and M. Thorne. London: Fourth Estate, 2001. P. XI.[↩]
- Tew Ph. The Contemporary British Novel. London: Continuum, 2004. P. 4.[↩]
- Цит. по: Winnberg J. Op. cit. P. 3.[↩]
- Цит. по: Emotion in Postmodernism / Ed. by G. Hoffmann and A. Hornung. Heidelberg: Universitats verlag C. Winter, 1997.[↩]
- Металепсис позволяет создавать ситуации моделирования, или симуляции, смерти, когда текст «производит симулякр смерти, сталкивая миры, пересекая границы онтологических уровней»(McHale B. Postmodernist Fiction. New York and London: Methuen, 1987. P. 232).[↩]
- См. обэтом: Bauman Z. Intimations of Postmodernity (1992), Postmodern Ethics (1993); Cavarero A. Relating Narratives; Storytelling and Selfhood (2000); Hoffmann G., Hornung A. (ed.) Ethics and Aesthetics: The Moral Turn of Postmodernism (1996); Ledbetter M. Victims and the Postmodern Narrative, or Doing Violence to the Body (1996); Nash Cr. The Unravelling of the Postmodern Mind (2001); Schrag C. O. The Self After Postmodernity (1997); Winnberg J. An Aesthetics of Vulnerability (2003).[↩]
- В своей монографии «Современный британский роман» (2004) Тью обращается преимущественно к социокультурным и мифопоэтическим потенциям современной прозы. Любопытно, однако, сделанное исследователем наблюдение: «Изменение акцента в современном романе отражает изменение современного британского сознания и его повествовательных реализаций: оно касается не только нестабильности «Я», но и зависимости «Я» от того, насколько оно способно понять «другого». Это обрекает «Я» на вечную неудачу, неизбывную ранимость и уязвимость (always-already vulnerable)»(Tew Ph. Op. cit. P. 29). Представительница оппозиционного теоретического крыла К. Бэлси, известная своими постструктуралистскими разборами, приходит к аналогичным выводам (см. главу «Постмодернистская любовь» в кн.: Belsey C. Desire: Love stories in Western culture. Oxford: Blackwell, 1994).[↩]
- Ledbetter M. Victims and the Postmodern Narrative, or Doing Violence to the Body. N. Y.: Basingstoke, Macmillan, 1996. P. 16.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Статья в PDF
Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №5, 2007