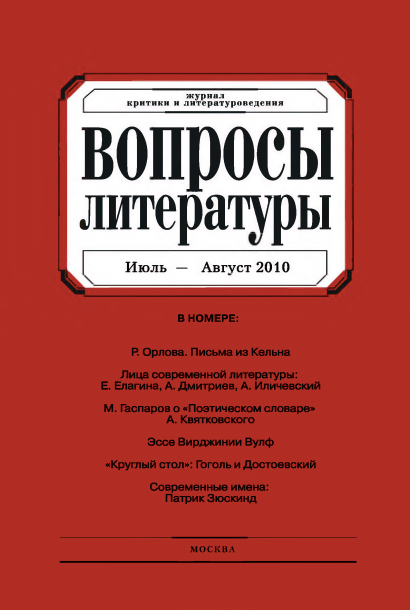Никому не известный писатель Всеволод Иванов
1
Когда несколько десятилетий назад началось медленное постепенное переоценивание всего литературного наследия советской эпохи, естественно, на первый план выдвинулись те самые крупные писатели, которые были либо физически истреблены режимом, как Мандельштам и Бабель, либо те, кого, как Булгакова и Платонова, очень мало печатали и не вносили ни в какие официальные списки почитаемых и преподаваемых авторов. Мой отец, Всеволод Иванов (1895-1963), мог бы отчасти разделить судьбу писателей этого последнего рода. Но, в отличие от них, одну его вещь — «Бронепоезд 14-69», написанный еще в 1921 году, — продолжали перепечатывать (часто с большими редакционными и цензурными искажениями, как и другие повторно переиздававшиеся произведения не только Иванова, но и его друзей по начальному времени известности, как Леонов), ставить в театре (хотя время от времени и запрещали — без этого не обходилась судьба ни одного сколько-нибудь значительного произведения тех лет), оставляли в школьных и университетских программах для изучения. Создаваемый этим условный образ классика советской литературы, посвященной гражданской войне, полностью и надолго заслонил все остальное, сделанное писателем.
Никто не помнил самых сильных его рассказов, включенных в сборник конца 1920-х годов «Тайное тайных», подвергнутый в тогдашней официальной печати оглушительной критике как антисоветский, фрейдистский, бергсонианский (у каждого из обвинений были основания, я думаю) и никогда полностью не переиздававшийся при жизни автора (первое его новое издание только теперь готовится к печати). С присущей ему в таких невеселых случаях усмешкой отец вспоминал по поводу своего больше всего обруганного рассказа «Особняк» газетную карикатуру Кукрыниксов: на ней изображался автор рассказа, высунувший из окна «Особняка» руку в попытке удушить ею пролетариат.
Писатель не смог напечатать двух главных своих романов «Кремль» и «У», написанных на рубеже 20-х и 30-х годов в гротескном стиле, вполне отличном от советской благополучной беллетристики того времени. Неизданным оставалось и только благодаря энергии его вдовы — моей мамы Т. Ивановой (1900-1995) — медленно доходило до издания в последние десятилетия советской власти большинство других его оригинальных произведений, написанных во второй половине жизни, среди них часть цикла фантастических рассказов, повести «Вулкан» и «Эдесская святыня» (все названные выше тексты изданы посмертно, иногда неполно и отчасти c искажениями заглавий и текста; их издание прошло едва замеченным читателями и критикой). В последние годы он часто не заканчивал или дробил на множество версий начатое, иногда сопровождая наброски поясняющей запиской о том, что не кончает, потому что уже не верит в возможность публикации. Подборка некоторых из никогда не издававшихся его сочинений, которая сейчас впервые собирается, составит два обширных тома. Туда войдут вместе с другими произведениями разные неоконченные варианты приключенческого романа тайн «Сокровища Александра Македонского», содержащие и остроумную критику бюрократической советской иерархии, фантастический рассказ о замороженном и ожившем Меншикове «Генералиссимус», несколько неизданных и непоставленных пьес, среди них комедии «Алфавит» (уже в середине 1920-х годов высмеивавшая крупного советского чиновника) и «Синий в полоску», изображавшая в жанре зловещего гротеска кошмарный быт жителей советсткого дома 1930-х годов1, полуавантюрная историческая драма о великом русском дипломате, лицейском товарище Пушкина князе Горчакове «Канцлер», народная стихотворная эпическая пьеса по мотивам «Левши» Лескова, сказка для детей «Тайна Голубой дачи», отчасти воспроизводящая вымышленную жизнь игрушек сыновей автора.
Разнообразие и мощь писательской фантазии поражают. Размеры утраченного литературой из-за невозможности полностью реализовать удивительно своеобразные замыслы — угнетают.
2
Многострадальная судьба сочинений автора сопряжена и с событиями его литературной биографии. Иванова, тогда работавшего типографским наборщиком в Сибири, еще в годы Первой мировой войны открыл и напечатал в столичных изданиях Максим Горький. Горький по окончании гражданской войны пригласил его переехать в Петроград, ввел в круг близких Горькому начинавших писателей — «Серапионовых братьев» (с некоторыми из них — Зощенко, Фединым и с примыкавшими к «Серапионам» формалистами — Шкловским и Тыняновым — Иванов долго потом продолжал дружить). Когда Горький из Италии, откуда он на протяжении почти 10 лет переписывался с Ивановым (как и с другими ему созвучными писателями), возвращается в СССР, он привлекает Иванова к руководству созданным Горьким новым Союзом советских писателей. Сразу после смерти (а я думаю — убийства2) Горького Иванов лишается своих «союзописательских» чинов, только мешавших его работе (но тут его и перестают печатать).
По приезде из Сибири Иванов быстро приобрел известность своими первыми рассказами. Один из них — «Дитё» (в не очень радужном свете изображающий красных партизан) — он читает на встрече молодых писателей с тогдашними так называемыми «вождями» (лидерами партии и правительства). В рассказе партизаны убивают киргизского младенца, заподозрив его мать — похищенную ими при набеге на киргизское село молодую женщину — в утаивании своего молока от оставшегося по нечаянной вине партизан сиротой русского грудного ребенка, которому ее предназначили в кормилицы. Садизм этой истории, как и некоторых других рассказов Иванова о гражданской войне, пришелся по вкусу Сталину — тогда «наркомнацу»3; он пригласил Иванова погостить у него на даче. Завязалась было дружба (по желанию вождя подкрепленная грузинским вином). Вскоре она прервалась.
Сталин предложил написать предисловие к тому рассказов Иванова о Средней Азии, который он прочитал в корректуре. Когда Иванову это предложение передал Воронский, продолжавший начатое по поручению Ленина вовлечение писателей в советскую литературу и показавший эту ивановскую корректуру Сталину, Иванов отказался решительно. Он сказал, что не любит предисловий, а особенно — когда их пишут политические деятели. Сталин тут же перевел его в категорию врагов, обозвав «сменовеховской» печатавшуюся в журнале «Прожектор» повесть Иванова «Чудесные похождения портного Фокина». В своем разговоре с украинскими писателями в 1929 году Сталин замечает, что не смотрел спектакля «Бронепоезд 14-69″4 (в отличие от «Дней Турбиных», на представлениях которых он был завсегдатаем), и высказывает сомнение по поводу того, является ли автор пьесы коммунистом, как он сам ошибочно (согласно мнению Сталина) может думать (впрочем, от Сталина, потом во время террора принявшегося истреблять как можно больше коммунистов, это замечание — двусмысленно, он мог относить Иванова к числу себе подобных макиавеллистически мысливших циников).
В начале 1930-х годов, бросив прежнюю разудалую, беспутную и очень литературно успешную жизнь, Иванов демонстративно отказывается от совершенных ошибок и пробует восстановить отношения со Сталиным. По его письму и телеграмме Горького Сталин принимает решение разрешить ему с новой женой длительную поездку к Горькому в Сорренто (родители хотели взять с собой и детей, но нас оставили в Москве заложниками). В 1931 году Иванов вместе со своим другом Леоновым пишет Сталину письмо, выражая желание с ним встретиться. Из них двоих Сталин видится только с Леоновым и спрашивает того, «совсем ли исписался Всеволод Иванов» (речь шла о только что вышедшей и в самом деле неудачной — по духу словно советской — вещи писателя «Путешествие в страну, которой еще нет»). А встретившись потом с Ивановым во время знаменитого общего говорения с «инженерами человеческих душ» (там Сталин их так и обозвал) на квартире у Горького, Сталин за столом полушутя упрекнул Иванова в том, что тот «себе на уме»: видимо, отказ от предисловия он расценил как политическую хитрость. Эту же характеристику Иванова (но сказанную всерьез, при решении о раздаче писателям орденов, — Иванову Сталин велел дать средний по значению «Трудового Красного Знамени» вместо предлагавшегося высшего «Ленина») Фадеев слышал от Сталина через несколько лет.
На всем протяжении правления Сталина (и некоторое время после него) тот рассказ «Дитё», с которого начались взаимоотношения с будущим диктатором и первые фразы которого Сталин знал наизусть и десятилетия спустя читал собеседникам как образец настоящей литературы, оставался запрещенным политической цензурой (искусство оставалось разрешенным только для него одного — своей удивленной дочери Светлане Сталин сообщал, что Достоевский, в школе для всех запрещенный, — был большим писателем. Я вспоминаю диктатора в «Добром новом мире» Олдоса Хаксли: Шекспира может втайне читать только он один, хранящий его томик в сейфе). Ни одна из многочисленных предпринятых позднее Ивановым попыток сближения с официальной тематикой советской литературы не увенчалась успехом. Не скажу, что он чуждался компромиссов, но, когда он на них шел, власти от него отшатывались. Сам он не раз говорил, что талантливый человек всегда добавит в им сочиненное что-то властям не нужное.
Мне представляется, что Иванов не осознавал себя реально действовавшим участником происходящего. Он предпочитал роль летописца, свидетеля, по возможности бесстрастного. Оттого важную часть его наследия военных лет составляют дневники, сравнительно недавно изданные5. Из других неопубликованных архивных материалов, представляющих исторический интерес, важны записи происходившего на процессе Бухарина, Ягоды и других, куда Иванов был направлен как корреспондент «Известий» (его статьи об этом процессе, вызвавшие осуждение таких друзей, как Пастернак, были напечатаны в этой газете). Большинство подсудимых ему, как и другим наиболее известным писателям, отправленным на процесс как корреспонденты, были хорошо знакомы. Он с изумлением описывал наглость Алексея Толстого, который, войдя в зал, прошелся мимо сидевших на эстраде обвиняемых, как бы внимательно в них вглядываясь, будто впервые видя, — «а вот вы какие, мерзавцы!» (хотя и он прекрасно их знал; я, впрочем, не исключаю того, что после длительных пыток внешность некоторых из них могла измениться). Среди других существенных записей в этих торопливых заметках Иванова идет речь об эпизоде, когда Бухарин отрицал часть выдвинутых против него обвинений. Иванов считал важным то, что он побывал на всех основных политических процессах советского времени. Он был знаком со многими из видных исторических деятелей эпохи. Назову только немногих:
Колчака — когда тому Иванова как автора, открытого Горьким, представил в своем салоне в Омске сибирский писатель Антон Сорокин, диктатор — Верховный Правитель России — в ответ сообщил, что после взятия им Петрограда повесит Горького и Блока, хотя они и талантливы.
Троцкого — к тому отец был зван на пиршество по случаю удачной охоты, а книгу с его автографом он вынужден был уничтожить по настоятельному требованию моей мамы, боявшейся за участь всей семьи.
Бухарина — тот дома у Горького знакомил его с их совместным планом издания беспартийной газеты.
Фрунзе и многих других полководцев — героев гражданской войны, потом погибших, как Блюхер, архив которого тот передал отцу перед арестом — он занимал целый шкаф с закрытыми дверцами в кабинете Иванова, после реабилитации Блюхера папки, предназначавшиеся для задуманной отцом его биографии, были отданы в Ленинскую библиотеку.
Радека — тот рассказал отцу и тогда с ним дружившему Пильняку антисталинский вариант истории преднамеренного убийства только что погибшего Фрунзе: Пильняк тут же высказал желание писать об этом, и отец тщетно его отговаривал — по словам отца в его неоконченных автобиографических заметках «Портреты моих друзей», самонадеянный Пильняк был уверен, что ничего плохого с ним «они» не смогут сделать.
Куйбышева — увы, здесь воспоминания неприятны: будущий враг Джугашвили (так он его величал в письме Кирову, стоившем жизни им обоим) искал у русского писателя сочувствия в своей нелюбви к управлявшей — по его суждению — страной еврейской компании; во время правительственного приема Куйбышев сказал, указывая на сидевших за столом: «Всеволод, мы же русские люди, смотри, кто нами правит», — отец не любил антисемитизма и об этом разговоре рассказывал с удивлением и отвращением.
Жукова — он дважды с ним беседовал на фронте, двигаясь с армией генерала Цветаева к Берлину; последний раз они встречались с Жуковым у гроба Фадеева, стоя ночью в почетном карауле, — тот сказал отцу о самоубийстве Фадеева по-военному: «Бывают потери».
Иванов ощущал пульс истории. Он внимательно следил за происходившим во всем мире.
- См.: Иванов Вяч. Вс. О неизданной пьесе Всеволода Иванова «Синий в полоску» // Russian Literature (Amsterdam). 2003. № 1.[↩]
- См.: Иванов Вяч. Вс. Почему Сталин убил Горького? Избранные труды по семиотике и истории культуры в 3 тт. Т. II. М.: Языки славянской культуры. 1998. [↩]
- Народный комиссар по делам национальностей. Сталин был также уже и «генсеком» (генеральным секретарем ЦК партии большевиков), но должность считалась чисто административной, и ей первоначально не придавали значения.[↩]
- Но в том же разговоре Сталин говорил о пользе, которую принесла написанная намного раньше одноименная повесть, переделкой которой была пьеса. О реакции Сталина на первую публикацию повести Воронский писал Иванову 22 марта 1922 года: «В восторге Сталин и прочая именитая публика». Сталин вскоре после этого называет в качестве возможного руководителя Иванова — именно как беспартийного — в качестве возможного руководителя планировавшегося им центра воссоздания русской культуры (один из первых намеков на ту националистическую реставрацию, которую Сталин начал еще пушкинским юбилеем в 1937 году и продолжил во время войны и после нее). См.: Сталин И. В. Записка в Политбюро ЦК РКП(б) 3 июля 1922 года // Сталин И. В. Сочинения в 17 тт. Т. 17. Тверь: Научно-издательская компания «Северная корона», 2004. С. 151-152. [↩]
- Иванов Всеволод. Дневники. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Статья в PDF
Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №4, 2010