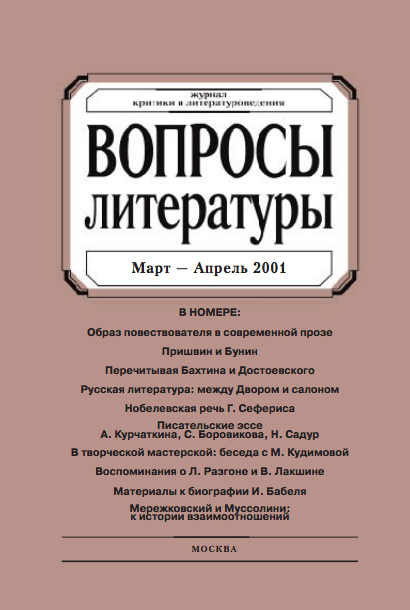В пятидесятые года и позже (Эпизоды). Часть 1
КАК Я ОБМАНУЛ ТОВАРИЩА КОГАНА
Летом 1952 года, по окончании МГУ, я долго и безрезультатно пытался устроиться на работу. Был в десятке школ, в литмузеях, в гор- и облоно. Встречали довольно приветливо: да, нам нужен учитель-словесник (или экскурсовод, или литсотрудник), предлагали заполнить анкету, зайти через несколько дней. Захожу: извините, говорят, мы и не знали, что место уже занято.
Конечно, в таком положении оказался не я один. Позже я узнал, что через подобную процедуру проходил в Ленинграде Юрий Михайлович Лотман, до тех пор пока он не решил плюнуть на северную столицу и переехать в Тарту. Таким образом, первыми, кто содействовал образованию всемирно известной Тартуской школы, были ленинградские кадровики…
Но вернусь к моим собственным делам.
Как-то в облотделе народного образования в очереди искателей места меня выглядел мужчина средних лет с простым, открытым лицом – такими в кино изображали сельских интеллигентов, учителей или агрономов.
– Я директор педагогического училища в Воскресенске.
Хотите вести у меня литературу? Только придется добираться паровиком часа два (электрички туда еще не ходили).
Я, конечно, согласился, ведь это уже побольше, чем школа, почти вуз, предел моих мечтаний.
– Тогда заполните, пожалуйста, анкету – я как нарочно захватил с собою один экземпляр – и позвоните через неделю мне в Воскресенск, а я за это время все устрою в райкоме партии.
Звоню. «Извините, – говорит, – я и не знал, что место уже занято…»
Однажды мне позвонила Женя Львова, которая закончила университет тремя-четырьмя годами раньше и работала в школе книготоргового ученичества. Она собиралась в декретный отпуск и предложила мне ее заменить.
– А что же я буду там делать? Учить, как продавать книги?
– Вовсе нет. Будешь, как и я, вести уроки русского языка и литературы.
И Женя велела мне прийти в такой-то час в такое-то место к директору школы товарищу Когану.
Услышав фамилию, я упал духом, так как ничего хорошего это мне не сулило. Вопреки ходячему мнению о еврейской солидарности и взаимовыручке я по опыту знал, что еврей-начальник всегда в таких случаях трусливее любого другого. Но Женя Львова меня успокоила:
– Ты не знаешь Когана. Это принципиальный человек, настоящий коммунист. И потом учти: наше заведение богом забытое и товарищу Когану просто не из кого будет выбирать…
Подхожу к обшарпанному двухэтажному дому где-то возле Яузских ворот, во дворе. Из дверей выпархивает стайка девчонок, веселых и симпатичных, ничем не отличающихся от школьниц-старшеклассниц. Ну, думаю, еще не так все плохо.
Вхожу в приемную директора – и у меня темнеет в глазах. Комната битком набита претендентами на освобождающееся место; и все из той же оперы, что и я, и у всех безнадежно понурый вид.
Делать нечего, встал в очередь, жду. Не помню, что меня спрашивал Коган; помню только, что отвечал я как-то особенно безразлично и незаинтересованно, так как ни на что решительно не надеялся.
Не знаю, что сыграло свою роль, мой ли вид ни на что не претендующего человека, или, к тому же, товарищ Коган действительно оказался настоящим коммунистом, но только через какое-то время мне звонит Женя Львова:
– Куда же ты пропал? Ведь Коган выбрал именно тебя!
И тут я должен рассказать о поступке, о котором с неловкостью вспоминаю и по сей день.
Знакомые говорили мне: зачем ты суешься в обыкновенную дневную школу? Там идеологическая работа, воспитательный процесс, дети, на которых, как ты понимаешь, ты можешь оказать разлагающее влияние. А ты иди в вечернюю школу рабочей молодежи, где та же программа, а надзор не такой строгий и, значит, кадровых преград меньше. Я послушался и подал документы в ШРМ N 146 тогдашнего Щербаковского района.
На беду мою, директор этой школы Евгений Михайлович Смирнов тоже оказался «настоящим коммунистом» и отстоял мою кандидатуру в роно. Все это мне стало известно буквально через день-два после приема у Когана, но документы я подал давно и, конечно, должен был ему об этом сказать. Но не сказал, – признаюсь, не только потому, что до конца не верил, но и «для перестраховки»: пусть мол, из двух вариантов сбудется один.
Идти к Когану у меня не хватало мужества, и он наконец позвонил сам. Не помню всего разговора; помню только его непереносимо укоризненную интонацию и еще фразу: «А ведь я ради вас отказал другим…»
ШЕСТЬСОТ ЗНАКОВ
В школе рабочей молодежи я был занят лишь три раза в неделю по вечерам, с семи до одиннадцати, и у меня оставалось много времени для разных грустных размышлений. Мои университетские приятели обсуждали научные проблемы, готовили спецвопросы, сдавали экзамены; мне же этот путь был заказан.
Дважды я попробовал испытать судьбу, но довольно бесславно.
Вначале, пользуясь правом учителя, я решил заочно подготовить экзамен по специальности, то есть по русской классической литературе. Взял отношение в тогдашний городской Пединститут имени Потемкина.
Пришел в назначенный день. В комнате было несколько человек; видно, только что закончилось какое-то совещание.
Заведующий кафедрой профессор Александр Иванович Ревякин сказал высокому седому старику: «Вы можете идти домой»; это был Леонид Гроссман, известный писатель и ученый, специалист по Достоевскому. И другому, помоложе: «А вас прошу несколько задержаться…» Это был профессор Водовозов, специалист по древнерусской литературе.
Вдвоем с Водовозовым Александр Иванович Ревякин довольно быстро разделался со мною. «Ничего кроме двойки я вам поставить не могу», – сказал он с тяжелым вздохом. Признаюсь, это был для меня сильный удар: за все время университетского учения у меня была лишь одна четверка (по польскому языку), остальные пятерки.
Возвращаясь домой, я все переворачивал в голове вопросы, которые мне задавали, и решил, что и сам без труда мог бы засыпать своих экзаменаторов; ведь каждый из нас знает что-то такое, чего не знает другой. Но это были бесполезные, ни к чему не ведущие размышления.
(Позднее, уже в другое время и в других обстоятельствах, мне пришлось не один раз встречаться с Ревякиным; он был ко мне неизменно благожелателен и добр. Конечно, он не узнал во мне того неудачливого соискателя; я же ему тоже не собирался напоминать. И не только потому, что никакой обиды к нему у меня уже не было, но и потому, что узнал и о других фактах его деятельности. В те непростые времена, вопреки давлению начальства, он делал все возможное, чтобы сохранить на кафедре Леонида Гроссмана. Требовать постоянства и последовательности во всех поступках было бы чрезмерным, и вполне естественно, что Александр Иванович решил пожертвовать не заслуженным, маститым ученым, а никому не известным мальчишкой.)
Второй раз я сдавал в заочную аспирантуру Ленинского пединститута. Профессор Головенченко, заведующий кафедрой и председатель комиссии, оказался ко мне более снисходителен, чем Ревякин, и поставил по специальности четверку. Но все равно это был непроходной балл.
И тогда неожиданно мне пришла в голову простая мысль: зачем нужна аспирантура и ученая степень? Разве нельзя обойтись и без них? Ведь сами по себе они не прибавляют ни ума, ни знаний.
Как-то я проходил мимо дома на Покровском бульваре с вывеской «Советская энциклопедия». Так, значит, отсюда выходят огромные синие тома, которые мне в то время казались вместилищем мудрости! Но ведь не сами же пишутся эти тома; кто-то их, наверное, сочиняет (в то время энциклопедические статьи, как правило, не подписывались)…
Я пришел в редакцию в поздний час, когда никого уже не было, и лишь в одной комнате в полутьме я увидел человека за письменным столом. Это был заведующий редакцией литературы и языка Владимир Викторович Жданов.
Я что-то промолвил в том смысле, что не нужны ли вам помощники, которые могут что-то написать для очередного тома, и если они нужны, то я бы мог соответствовать… И дня подтверждения протянул свой диплом вместе с вкладышем, в котором, как я уже сказал, была лишь одна четверка.
Жданов смотреть диплом не стал, окинул меня взглядом и, подумав, сказал:
– Но мы очень мало платим.
Я хотел сказать, что готов писать бесплатно, но постеснялся и сказал лишь: «Это ничего».
– Но мы очень долго выходим. Я ответил, что мне спешить некуда. Тогда Жданов стал листать тетрадку (позже я узнал, что это называется «словник»), пока не нашел то, что было нужно.
– Дмитрий Тимофеевич Ленский! Знаете такого водевилиста и актера? Конечно, не Островский, но, между прочим, его «Лев Гурыч Синичкин» идет до сих пор… Возьмите-ка Ленского! Только не больше 600 знаков!
– А что такое 600 знаков? – спросил я по невежеству.
– А это значит общая сумма и букв, и знаков препинания, и пробелов… Договорились?
И когда я уже закрывал дверь, кинул мне вдогонку:
– Только не забудьте: 600 знаков!
Вот эти «600 знаков» и произвели на меня самое сильное впечатление. Сочинив статью, я мучительно долго считал и пересчитывал, вычеркивал фразы, заменял одни слова другими, более короткими. Я был в полной уверенности, что если не уложусь в 600 знаков или напишу меньше, то статью отвергнут, не читая.
Но к моему разочарованию, Жданов не стал считать знаки. Пробежав два-три раза то, что я ему принес, он одобрительно кивнул и заказал мне еще одну статью: о Николае Ивановиче Надеждине – на 1200 знаков!
Между тем такой способ вхождения в литературу мне понравился, и спустя некоторое время, также «с улицы», без всяких рекомендаций, которых мне и просить было бы не у кого, я пришел в «Огонек» к Андрею Михайловичу Туркову. Договорились о статье, посвященной Батюшкову (тогда ожидался какой-то юбилей).
Потом я направил свой путь в «Новый мир» к Анне Берзер, редактору, и Алексею Ивановичу Кондратовичу, заведующему отделом критики, и напечатал две-три рецензии. Это было еще при Константине Симонове; позднее же, при Твардовском, я стал уже довольно активно сотрудничать в этом журнале.
Так с помощью Жданова, Туркова, Кондратовича и Берзер состоялись мои литературные дебюты.
А за те «600 знаков» я получил 112 рублей – сумму по тем временам немалую (дело происходило еще до хрущевской реформы), пятую часть моей учительской зарплаты. Я сумел купить на них себе лыжи, и не какие-нибудь, а самые лучшие – таллинскую экстру!
СТРАШНЫЙ СОН НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТЕМУ
И на этих лыжах я довольно неудачно спустился с высокой крутой горы, что в Фирсановке, под Москвой, и угодил с сотрясением мозга в больницу Склифосовского, по-теперешнему – в Склиф.
Это были последние месяцы жизни Сталина, разгар «дела врачей», мощный накат погромной волны…
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Статья в PDF
Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №2, 2001