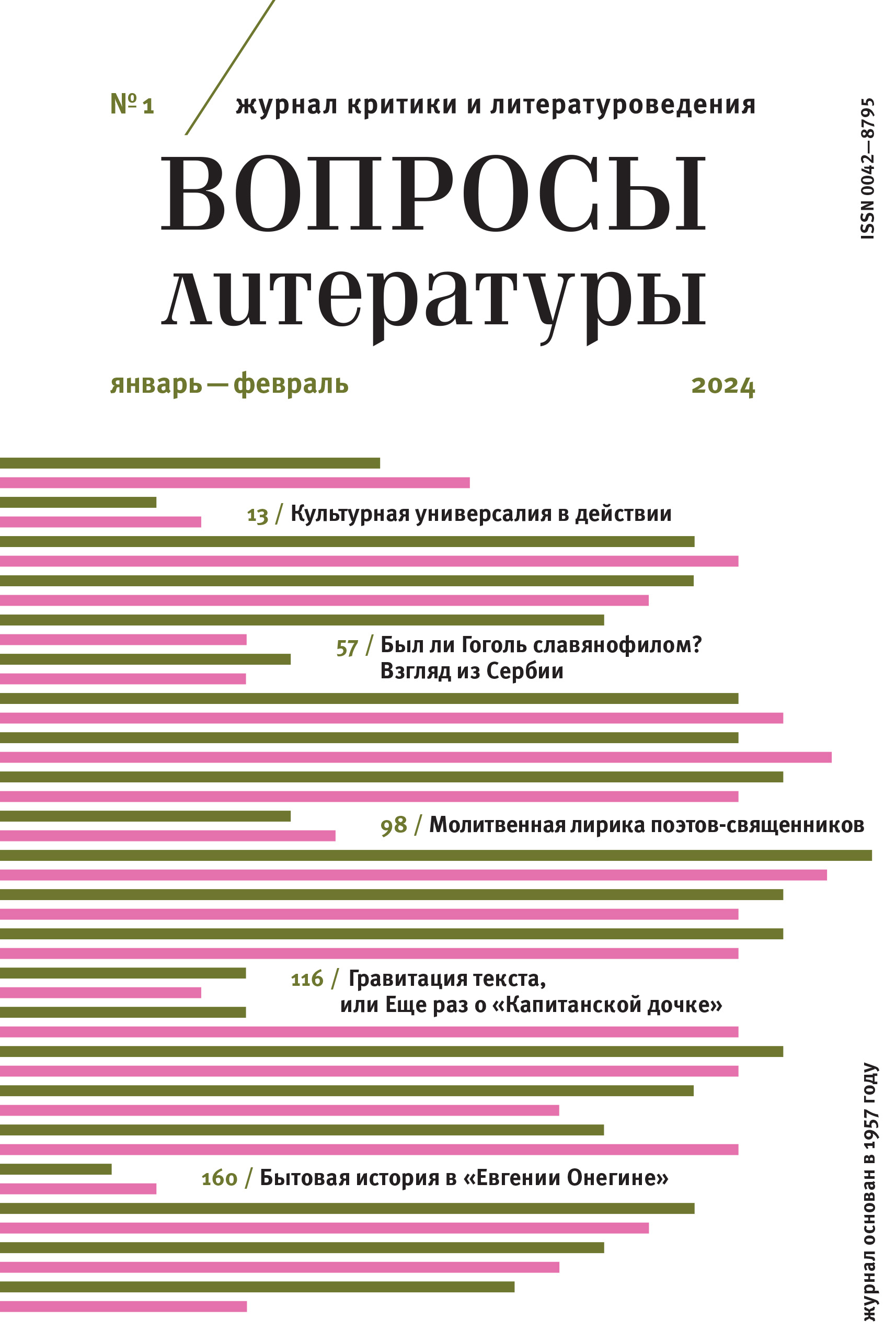Молитвенная лирика поэтов-священников. Поэтические молитвы К. Кравцова и С. Круглова
Важность изучения молитвенной лирики поэтов-священников заключается в том, что бытие автора и текста в данном случае разворачивается на стыке религии и эстетики. Это придает авторам особый «экспертный» статус в современной молитвенной лирике и позволяет говорить о ее тенденциях в целом. Тем более странно, что эта тема не заявлена в современном литературоведении, хотя сама молитвенная лирика не раз становилась предметом исследований1.
Религиозная молитва и молитва художественная — в жанровом отношении не одно и то же. В первом случае это речевой жанр, где в роли адресата выступает бахтинский над-адресат. Этот жанр может включаться в состав стихотворения (пушкинское «Отцы пустынники и жены непорочны…»), или же само стихотворение может быть эстетической имитацией молитвы (лермонтовское «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). Однако в обоих случаях можно выделить архитектонику собственно молитвенного текста: грамматически маркированное обращение к сакральному началу и наличие интенции говорящего по отношению к этому началу [Симоненкова 2021: 97]. В силу этих факторов здесь мы будем использовать более широкое понятие — молитвенная лирика. Оно уже заявлено в работах ведущего исследователя этой темы Э. Афанасьевой и включает в себя основные художественной молитвы.
В современном литературоведении типология молитвенной лирики (не совпадает с богословской типологией молитвы) разработана подробно. Молитвы классифицируют по типу и числу адресатов (Бог, Богоматерь, ангелы, святые) [Келер 2021: 31; Бобырева 2019: 174–175]; по типу и числу адресантов (актантом молитвы может быть любой вид лирического субъекта, в том числе субъект, выступающий от общего «мы» [Келер 2021: 31])…
Однако более разнообразна классификация молитвенной лирики по типу интенции лирического субъекта. Среди них выделяют следующие: хвала [Келер 2021: 32–33], прославление [Симоненкова 2021: 99], хвала-благодарение [Бобырева 2019: 174–175], благословление [Ковалева, Симоненкова 2019: 132; Келер 2021: 32], исповедание [Келер 2021: 32]; благодарение [Келер 2021: 32–33], нарратив-благодарение [Бобырева 2019: 174–175]; нарратив [Симоненкова 2021: 99; Келер 2021: 32], прошение [Симоненкова 2021: 99; Келер 2021: 32–33], ходатайство [Келер 2021: 32], призыв-прошение [Бобырева 2019: 174-175], покаяние [Келер 2021: 32–33], инвектива [Герасимова 2013: 240], молитва-поиск [Александрова 2015: 206]…
Все разнообразие молитвенных интенций сводится к пяти основным типам: инвектива, прошение (включает в себя ходатайство как прошение за другого), покаяние (нельзя считать частным прошением, так как это прежде всего заявление субъекта о собственном изменении, о перемене ума2, а не просьба о прощении), благодарение и хвала. Складывается условная интенциональная иерархия. При этом, согласно В. Тюпе, как минимум два ее элемента восходят к древнейшим перформативам — хвале и хуле (инвективе) [Тюпа 2013: 112]. Древнейшие перформативы являются «геном» жанра. С точки зрения теории перформативности жанр молитвы нуждается в рубрикации, так как может восходить к разным перформативам. Это еще одна причина, по которой мы не говорим о художественной молитве как о жанре.
Перечисленные выше образ сакрального адресата, лирический субъект и его интенция — вот минимум оснований для сравнительного анализа молитвенной лирики.
Среди современных русскоязычных религиозных поэтов священники К. Кравцов и С. Круглов, пожалуй, наиболее известны. Обращение к их текстам позволяет выявить две основные тенденции молитвенной лирики сегодня.
Молящийся субъект в лирике Круглова — критика, публициста, поэта и священника, последние три года живущего и служащего в маленьком городке Минусинске, — обретает голос, проходя через авторскую поэтику квазинаива. Она подразумевает передачу философской проблематики в наивной форме.
Здесь субъект, в отличие от автора, — церковный обыватель. Религиозный текст, к которому он апеллирует, — это всегда клише. Так, в стихотворении «День резидента», где разведчики на пенсии празднуют день памяти святителя Николая, коллективный герой ролевой лирики при обращении использует форму звательного падежа:
Святителю отче Николае,
Днесь тебя почитаем мы,
Пожилые разведчики-пенсионеры…
Сам текст композиционно строится как акафист3 — за обращением следует нарратив, обозначающий заслуги святого: Николай становится небесным покровителем разведчиков, благодаря удачному перевоплощению в Санта-Клауса, бегству от «кровавых акул империализма» и перевербовке «злого рецидивиста, / Языческого хтонического брадатого людоеда Мраза». Этот нарратив завершается призывом радоваться: «Радуйся, Николае, великий Чудотворче!» (обязательная для икосов4 акафиста формула концовки) и возгласом «Аллилуйя» (обязательная для кондаков5 акафиста концовка):
И из всех силенок пожилых сердец славим
Профессиональный свой праздник,
Великое искусство небесной разведки,
Правило веры и образ кротости,
Мы, старая гвардия, не умираем, но сдаемся
На милость Победителя Бога,
Сдаем ему все наши пароли и явки
(Словом, делом, помышлением,
Чувством, толком, расстановкой),
И, поя Тому застольное «Аллилуйя!»,
Не забываем и припев песни:
«Радуйся, Николае, великий Чудотворче!»
Цитата из тропаря святому «Правило веры и образ кротости» рядом с пародийно переиначенным штампом «умираем, но не сдаемся» и покаянная формула «словом, делом, помышлением», объединенные с крылатым «чувством, толком, расстановкой», маркируют религиозно-обывательское сознание лирического субъекта. Даже говоря о святом от себя, субъект использует молитвословные модели обозначения.
- См.: [Афанасьева 2021; Симоненкова 2021].[↩]
- См. значение аналогового греческого «метанойя» — буквально «перемена ума».[↩]
- Акафист — жанр православной гимнографии, хвалебно-благодарственное пение, посвященное Богу, Богоматери, ангелам или святым.[↩]
- Икос — церковное песнопение (часто в составе акафиста) хвалебно-благодарственного характера, прославляющее Бога, Богоматерь, ангелов, святых или событие. Является составной частью акафиста.[↩]
- Кондак — небольшое песнопение, раскрывающее сущность хвалы Богу, Богоматери, ангелам, святым или событию.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Статья в PDF
Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №1, 2024
Литература
Александрова М. А. Жанр поэтической молитвы в лирике Л. Губанова (1946–1983) // Уральский филологический вестник. 2015. № 5. С. 203–209.
Афанасьева Э. М. Молитвенная лирика русских поэтов XIX века. М.: ИД ЯСК, 2021.
Бобырева Е. В. Сравнительные характеристики православной и англиканской молитвы // Известия ВГПУ. 2019. № 5 (138). С. 174–180.
Герасимова И. Ф. Поэтика стихотворной молитвы в цикле З. Гиппиус «Война» // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2013. № 1. С. 240–244.
Келер А. И. Жанр молитвы: критерии классификации // Филология: научные исследования. 2021. № 7. С. 29–38.
Ковалева Т. В., Симоненкова С. Н. Особенности жанра стихотворной молитвы в лирике К. М. Фофанова // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2019. № 4 (85). С. 132–138.
Кравцов К. П. Культура возникает из желания заполнить пустоту // Правмир. 2009. 9 декабря. URL: https://www.pravmir.ru/kultura-voznikaet-iz-zhelaniya-zapolnit-pustotu/ (дата обращения: 10.10.2023).
Кравцов К. П. Заостриться острей смерти. Часть I // Лиterraтура. 2015. № 34. URL: https://literratura.org/criticism/804-konstantin-kravcov-zaostritsya-ostrey-smerti.html (дата обращения: 10.10.2023).
Кравцов К. П. Еще о Страшном… // Культурная эволюция. 2019. 25 сентября. URL: http://yarcenter.ru/blogs/konstantin-kravtsov/eshche-o-strashnom-38176/ (дата обращения: 01.03.2023).
Симоненкова С. Н. Стихотворная молитва и ее жанровые разновидности в лирике 80–90-х годов XIX века // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2021. № 3 (92). С. 95–101.
Тюпа В. И. Дискурс/жанр. М.: Intrada, 2013.
Черных Н. Б. Икона отсутствия, или аварийное освещение // Кравцов К. П. Аварийное освещение. М.: Русский Гулливер, 2010. С. 5–12.