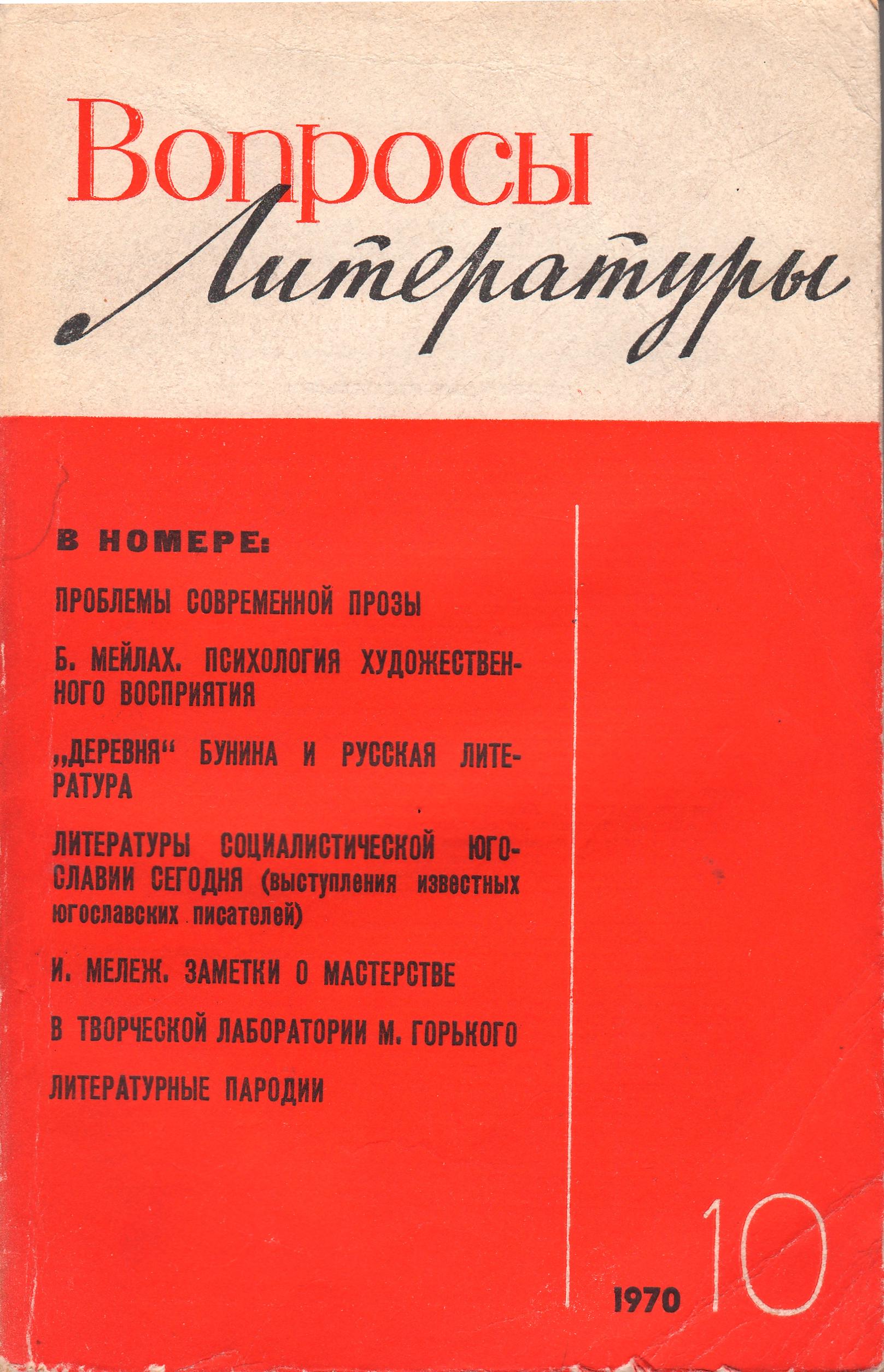Мандельштам – переводчик Петрарки
Петрарка в «Канцониере» (книга сонетов и канцон, 1335-1370) впервые в европейской лирике осмыслил внутренний мир личности как нераздельное единство «всеобщих» человеческих ценностей и индивидуальных переживаний, как одно целое, имя которому – душевная жизнь. В любовной поэзии Петрарки психологически реальное чувство впервые стало представлять миропонимание человека1.
Духовная жизнь личности в изображении Петрарки исполнена противоречий и беспокойства. О лирике его нельзя сказать, что она трагична, но она отменена поисками высшей истины; недостижимость абсолюта мучительна для мыслящего сознания. Противоречия жизни и собственной души порождают тоску (accidia), неудовлетворенность, элегическую печаль.
Поэт начала эпохи Возрождения, Петрарка постоянно ощущает раздвоенность и несовершенство своего личного сознания, разлад между жизнелюбием и острым ощущением бренности земного, между сладостью и горечью бытия. Он склонен осуждать себя за привязанность к бренному, земному, но в то же время с такой сладостью и нежностью его рисует, что тем самым возвращает ему все его обаяние и власть. Душевная борьба не кончается ничем: «ни да ни нет не звучит полностью в моем сердце».
На этом зиждется глубокий петрарковский самоанализ, рефлексия, постоянно подразумеваемый вопрос к себе самому: счастлив ли я? почему я не счастлив?
Петрарка всегда воссоздает одну и ту же лирическую ситуацию внутреннего разлада и печали. В первой части «Канцониере» («На жизнь мадонны Лауры») печаль вызвана сознанием собственного несовершенства, двойственности самой природы любви, одновременно чувственной и возвышенно-духовной; во второй части («На смерть мадонны Лауры») – невозможностью примирить смертность плоти с бессмертием духа.
В своих 366 сонетах и канцонах поэт с необычайным артистизмом варьирует обстановку, реалии, поэтические «формулы», воплощающие эту единую для «Канцониере» ситуацию. Фантазия Петрарки сосредоточилась именно на изобретении этих бесчисленных вариаций, Он создал богатейший диапазон эмоциональных и «предметных» оттенков в лирике.
Из русских поэтов переводить Петрарку первым начал Державин (сонеты «Посылка плодов», «Прогулка», «Задумчивость»); после него – Батюшков, один из создателей новой русской лирики. Хотя, казалось бы, пафос певца «Вакханки» кардинально отличен от Петрарки, для Батюшкова также по-своему характерна двойственность восприятия жизни, одинаково интенсивное ощущение ее красоты и ее недолговечности. Поэзия Петрарки повлияла на «унылую» элегию Батюшкова. По-видимому, в стихах Батюшкова есть немало невыявленных реминисценций из Петрарки. Не случайно, что одна из лучших и наиболее типичных у Батюшкова элегий – «Пробуждение» – в своей центральной части очень близко воссоздает структуру и лирический сюжет CCCXII сонета; притом это заимствование, преобразованное «в создание собственного воображения» (Жуковский), у Батюшкова гораздо более удачно, чем перевод в собственном смысле слова («На смерть Лауры»).
В дальнейшем отдельные сонеты Петрарки переводили в России А. Майков, Д. Мин, Вяч. Иванов, В. Брюсов, Ю. Верховский, А. Эфрос, В. Левик, О. Мандельштам.
О. Мандельштам в декабре 1933 – январе 1934 года перевел четыре сонета Петрарки – три из цикла «На смерть мадонны Лауры» и один из цикла «На жизнь мадонны Лауры». То было время его страстного увлечения классической итальянской поэзией XIV-XVI веков. Теоретическим итогом этого увлечения стал «Разговор о Данте» (1933; опубликован в издательстве «Искусство», М. 1967), в котором в связи с Данте излагаются оригинальные взгляды Мандельштама на поэтическое искусство.
В «Разговоре о Данте» Мандельштам утверждает, что преодоление академизма приближает нас к тому, как понимали поэта его современники, и тем самым открывает настоящего Данте. Не исключено, что нечто подобное Мандельштам представлял себе и при переводе Петрарки. Переводчики (за некоторыми исключениями, например Державин) действительно слишком «академизировали» великого поэта, его утонченную изысканность превращали в холодность, граничащую с манерностью. Поэт становился похож на своих эпигонов, на «петраркистов» позднейшего времени. Мандельштам стремится снять с Петрарки этот «лоск», «разморозить» его. Отказываясь от размеренной холодности других переводчиков, он усиливает страсть и экспрессию.
Как теоретическая работа с «Божественной комедией», так и практическая – со стихами Петрарки – была сугубо творческой, крайне активно связанной с эстетическими исканиями русского поэта. Мандельштам закладывает на эти переводы печать собственного мироощущения и поэтической манеры. Он создает близкие Петрарке по «лирическому сюжету», но иные по трактовке и осмыслению этого «сюжета» стихи.
Прежде всего Мандельштаму чужд «индивидуализм», сосредоточенность на своей личности, на ее исключительности и незаменимости как тончайшего
инструмента, своеобразного мерила разлитой в жизни «горечи» и «сладости». Внутренний разлад, душевная раздвоенность, рефлексия – все это не свойственно Мандельштаму. У него нет и двойственности жизнелюбия и жизнеотрицания. Его поэзия пронизана жаждой жизни. Стихи на смерть мадонны Лауры перевел поэт, написавший:
Я все отдам за жизнь – мне там нужна забота –
И спичка серная меня б согреть могла.
(«Кому зима, арак и пунш голубоглазый…», 1922)
Петрарка ловит каждое ощущение, которым отозвалась смерть Лауры в его сердце. Мандельштам в своих переводах более живописец и философ, чем психолог; его интересует «мир», а не «я».
У Мандельштама нет дуализма, нет того равновесия между «горьким» и «сладким», которое так свойственно Петрарке. И потому петрарковскую элегичность он преображает в трагедийность.
Обратимся к сонетам2.
CCCI
Valle che de’lamenti miei se’ piena,
fiume che spesso del mio pianger cresci,
fere selvestre, vaghi augelli, et pesci,
che l’una et l’altra verde riva affrena,
aria de’ miei sospir’ calda et serena,
dolce sentier che sì’ amaro rïesci,
colle che mi piacesti, or,mi rincresci,
ov’anchor per usanza Amor mi mena:
ben riconosco in voi l’usate forme,
non, lasso, in me, che da si lieta vita
son fatto albergo d’infinita doglia.
Quinci vedea’l mio bene; et per queste orme
torno a yedere ond’ al ciel nuda è gita,
lasciando in terra la sua bella spoglia.
(Долина, что жалобами моими полна,
Река, что часто от плача моего набухаешь,
Звери лесные, дивные птицы и рыбы,
Что одним и другим зеленым берегом сдержаны,
Воздух, от моих вздохов теплый и прозрачный,
Сладостная тропинка, что столь горестной оборачиваешься,
Холм, что был мне мил, теперь мне безотрадный,
Куда опять по привычке любовь меня приводит:
Узнаю в вас привычный вид,
Но, увы, не в себе, после столь радостной жизни
Ставшем обителью бесконечной скорби.
Здесь я видел мое благо, и по этим следам
Возвращаюсь взглянуть туда, откуда к небу нагая взошла,
Оставив на земле свою прекрасную оболочку.)
(Подстрочный перевод) 3.
Valle che de’lamenti miei se’piena.
Petrarca
Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;
Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах –
Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я. Как бы внутри гранита,
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,
Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.
Сонет CCCI, которым начинается цикл мандельштамовских переводов, очень характерен для Петрарки, сочетавшего полноту излияния чувства, подробность «исповеди» с психологическим аналитизмом. Лаура у Петрарки – это смертная женщина; она же – святая, ставшая бессмертной. Бессмертие души окрыляет поэта, но не способно полностью утешить, искупить утрату земной красоты – не только самой Лауры, но также красоты и сладости земного мира, пейзажа, составляющего с Лаурой нечто единое. Неразрешимость противоречия между жизнью и смертью не является здесь, однако, катастрофой. Душевное равновесие выражается в самой структуре сонета. Оба катрена содержат пейзаж прекрасного внешнего мира, оба терцета – «внутренний» пейзаж, итоги душевной жизни. Эти две части гармонически переливаются друг в друга: строфы 1-3 составляют одно предложение. Оно строится одновременно как обращение к явлениям природы, свидетелям былого счастья, как очень детальное описание этой природы – ясной и чистой – и как печальное повествование о навеки утраченном. Тоска и жалобы имеют единый колорит с прелестным «внешним» пейзажем. Отсюда – гармоничность, свойственная «плачу» Петрарки. В последней строфе (второй терцет) скорбь уравновешивается словами о небе, куда взошла Лаура. И облик земли, и представление о небе определили тональность сонета – «тихую скорбь и ликованье печали» (А. Веселовский), – исполненного трогательных и в то же время трезвых, сдержанных самонаблюдений и сладостного красноречия.
В мандельштамовском переводе, естественно, сохранен «лирический сюжет» и основной круг «действующих лиц» оригинала. Мандельштам сохраняет за большинством из «участников» действия их роль: река полна слез, долина – отзвуков чувства, рыбы «зажаты» двумя зелеными берегами, тропинка извивается; поэт окружен свидетелями своего счастья и своей утраты. Они притягивают поэта, он «возвращается» к ним (у Мандельштама – «ищет»). Перевод заканчивается соответствующим оригиналу мотивом воспарения Лауры ввысь и скорбью о ее теле, оставленном земле. Мандельштам, в соответствии с оригиналом, строго соблюдает тематические границы строф.
Если Петрарка поистине не знает других эпитетов, кроме «сладостный», «прекрасный» (dolce, belle) и т. п., то Мандельштам решительно отказывается от элегического тона и соответствующей лексики, ослабляет рефлексию и самоанализ, преобразует всякого рода меланхолические сентенции. Он энергически конкретизирует петрарковские образы, внося дополнительно целый ряд крайне экспрессивных метафор, передающих динамику, боренье, напряжение, контрасты. Отсутствуют выражения «жалобы», «вздохи», «бесконечная скорбь», «безотрадный». У Петрарки лирический герой испытывает и анализирует горечь утраты»он сделан обителью «бесконечной скорби», пейзаж полон его горестными сетованиями. Компоненты пейзажа служат фоном для переживаний. Мандельштам не воспроизводит интонацию Петрарки – его обращение к участникам действия («узнаю в вас»). Интонация и синтаксис первых трех строф изменены. Вместо логически ясной конструкции – конструкция несколько более трудная, вследствие большого количества перечислений (ведь «незыблемое» – это и есть «речка», «лесные птахи» и т. п.). Снятие обращения уничтожает и разделение на «я» и «не-я».
У Мандельштама сама речка «распухла» от слез, птицы и звери сами «рассказать могли бы». Мандельштам последовательно отказывается от личностных форм. У него речь идет о любви двоих, а не только самого поэта, при этом настолько отличной по своей сути от петрарковской («клятвы и шепоты каленые»), что в ее круг втягивается вся природа. На пейзаже остались глубокие следы, рубцы («силой любви затверженные глыбы», «трещины земли», «тропинок промуравленных изгибы»). Мандельштам снимает контраст между пейзажем и поэтом Любовь поэта и Лауры «космизируется». Природа – ее соучастник и находится в единой с поэтом атмосфере потрясения. Катаклизм душевный дан как катаклизм «геологический», равен ему. Все это образы, невозможные в системе Петрарки. Каменные толщи, при всей их неподатливости, разъедаются силой страсти и мучительных эмоций. Проникающая, разъедающая сила этих эмоций подчеркивается эпитетами – «соленые» слезы и «каленый» шепот.
На всем протяжении сонета Мандельштам заменяет все нежное, «сладкое» материально-весомым и глубоко проникающим. «Дивные птицы» заменены «лесными птахами». Лесные нейтральнее дивных, но зато слово «птахи» создает разговорную шероховатость, усиливающую экспрессивность. Рыбы зажаты (у Петрарки нейтральнее – обузданы, сдержаны). Мандельштаму достаточно для самоограничения общей «рамы» сонета; зажатое внутри, его отчаяние неистовствует в поисках максимальной экспрессии. «Чуткие звери» выступают в контрасте с «немыми» рыбами, которые тоже «рассказать могли бы»! Внешняя сжатость и внутреннее, проникающее кипение – не только характеризуют здесь манеру поэта, но прямо являются одной из оригинальных тем его стихотворения. Это тема незыблемого, которое зыблется, и тема гранита, внутри которого зернится скорбь. Здесь опять «геологические» метафоры душевной жизни. Нам дается узнать, что происходит «внутри гранита», за тем пределом, который кажется окончательным. Троекратное зыблется (незыблемое зыблется… и зыблюсь) имеет и смысл глубочайшей душевной растерянности, потрясенности, утраты жизненной основы.
Ключевой образ «незыблемого» – отдаленное соответствие петрарковскому неизменившемуся пейзажу («узнаю в вас привычный вид»). Но вместо рационалистической антитезы «я» – «не-я» провозглашается единство структуры душевной жизни и жизни мира, как структуры с беспредельной глубиной. Внутри гранита (а гранит – это мера крепости скорби) есть гнездо былых веселий (отзвук петрарковского «холм, что был мне мил») с зернящеюся внутри скорбью – опять множественность, неисчерпаемость. «Трудно спускаться по излогам его многоразлучного стиха» («Разговор о Данте»).
Гранит отсутствует у Петрарки. Вся сложная система образов, связанная с гранитом в стихотворении Мандельштама, восходит к петрарковской строке о поэте, ставшем «обителью бесконечной скорби». И обители, и самой бесконечности Мандельштам придает сугубую весомость и реальность.
«Гнездо былых веселий» у Мандельштама сугубо метафорично; поэт имеет в виду также и пейзаж, где разворачивалась драма любви. Отсюда переход к последнему терцету («где я ищу…»). У Петрарки мирное созерцание («возвращаюсь взглянуть»), у Мандельштама – напряженные и напрасные поиски. «Следы» у Мандельштама также приобрели другой смысл – речь идет о бесследности«красы и чести». Последние два слова имеют соответствие в эпитетах из другого, не переведенного поэтом, сонета Петрарки («honeste donne et belle» – «благородные жены и прекрасные» – сонет CCCXII), однако семантика их в стихотворении Мандельштама обобщена и заострена. И еще отличие от оригинала: у Петрарки смысловой акцент на том, что из «мест», которые он хочет видеть, Лаура вознеслась к небу; Мандельштам жаждет найти хотя бы след, оставшийся от земного счастья. Вознесение Лауры также дано по-разному. У Петрарки акцентировано слово небо; Петрарке известно, где теперь Лаура: там, где не нужна телесная оболочка, одежда – внешняя и чужеродная душе (Лаура «нагая взошла»). У Мандельштама акцентировано слово «исчезнувшей», чем усиливается абсолютность его смысла. Можно взойти, вознестись куда-то, но исчезнуть «куда-то» нельзя. Если в стихотворении поэта XIV века коллизия пролегает между землей и небом, то у поэта XX века – между землей и могилой.
- Мистический Amor у поэтов «нового сладостного стиля», святая Беатриче у Данте – символы неких высших ценностей. Что касается любовной лирики «провансальцев», то ей была свойственна куртуазная условность.[↩]
- Переводы представляют собой цикл. Порядок стихотворений, так же как наличие эпиграфов, определен О. Мандельштамом.[↩]
- Приношу благодарность Г. Д. Муравьевой, оказавшей мне большую помощь в работе над итальянскими текстами.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.