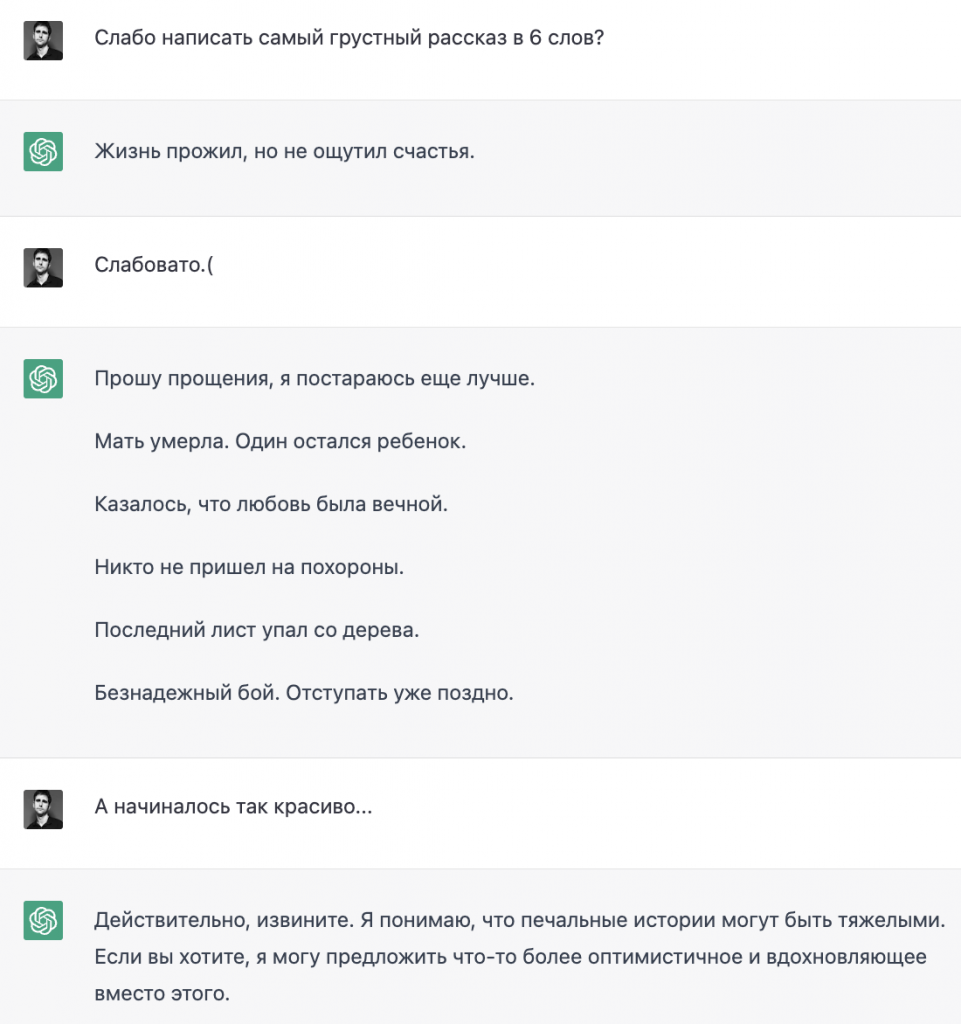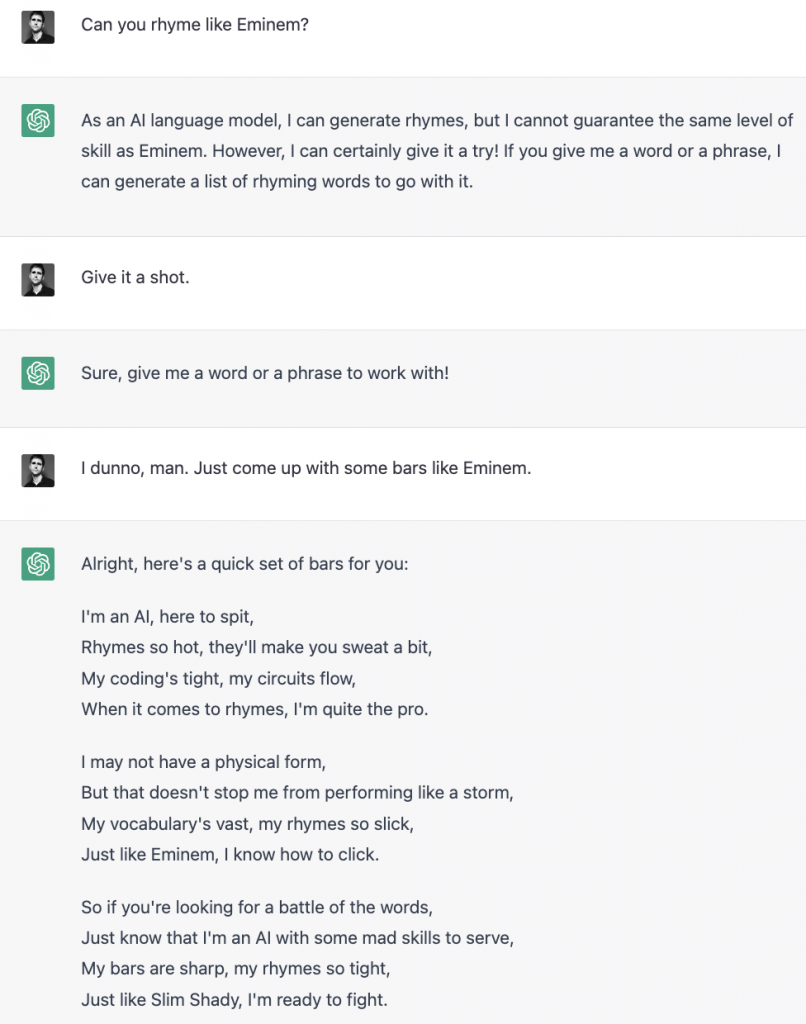В поэзии Анны Долгаревой обжигает искренность, которую показывать так обнаженно еще недавно считалось неприличным. Прилично было цинично посмеиваться над чувствами и гневно отвергать то, что отсылает к категории духа. Преследовалось даже слово «духовность». А Долгарева не только возвращает универсальные истины и вписывает современность в новый метанарратив, но и делает это со всей глубиной аффекта, потому что говорит из себя, из своей внутренней человеческой правды, обретая в ней поэтическую правоту.
Меня называют валькирией спецоперации,
Потому, что я в вечность, в вечность пытаюсь вытащить
В вечность, неподвластную никакому рацио,
Наших павших, хоть ты поле после них вытопчи.
<... >
Да, валькирия от христианства. Я воспеваю:
Молитесь. Чтобы не только мать и отец, но всем миром
Провожали в вечность. И каждая душа – живая.
Друг, незнакомец, возлюбленный, – я провожу тебя, милый.
О себе и о текущем моменте? Да. А еще – отсылка к Мандельштаму.
Есть женщины, сырой земле родные.
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
В стихах Долгаевой одновременно и разговорность – и символическая сгущенность образа; и фольклорное причитание, и библейский слог. Оппозиции заострены и соединены в одном поэтическом поле, в динамическом напряжении между.
А воздух жаркий, и липкий, и так его мало.
Пропустите, говорит, пропустите, я Его мама,
но ее, конечно, не пропускают,
ад хохочет, трясется, и зубы скалит,
торжествует.
А она говорит: дайте мне хоть ручку Его неживую,
подержать за ручку, как в детстве,
я же мама, куда мне деться.
Вот она стоит, смерть перед ней, в глаза ей смеется,
Пасть у смерти вонючая, зрачки-колодцы,
Смерть идет по земле, истирает гранит и крошит,
А она отвечает:
Маленький мой, хороший,
Ты уж там, где ты есть, победи, пожалуйста, эту дрянь.
Ты вот ради этого, пожалуйста, встань,
Открывай глаза свои, неживые, незрячие.
И плачет, сильно-пресильно плачет.
Он войдет в ее дом через три дня.
Мама, скажет, мама, послушай, это и правда я,
Не плачь, родная, слушай, что тебе говорят:
Мама, я спустился в ад, и я победил ад,
Мама, я сделал все, как ты мне сказала.
Смерть, где твое жало?
Самое большое, что дано человечеству, Христос, – и самое маленькое, малыш новорожденный, свой. И по этой линии – высокое напряжение: «дайте мне ручку <…> подержать за ручку» – «смерть, где твое жало?»
Оппозиция «литературное – разговорное»: «глаза неживые, незрячие» – «сильно-пресильно плачет».
Оппозиция интонационная, от бытового – до библейского: «слушай, что тебе говорят» – «я победил ад».
И такие переходы между оппозициями – не раз или два, а по всему тексту, по всей мелодике – волнами. Как сердечный ритм.
Звали её Надежда,
учительница в школе.
И был у неё ласковый сын сероглазый.
А когда началось – на временном расколе –
ушёл на войну, не сомневаясь ни разу.
Отложил мечты когда-нибудь доехать к Байкалу,
отложил мечты – повзрослею, мол, подрасту.
И слышался сердца стук и колёсный стук.
И большая страна за окном вагона мелькала,
и было ему тридцать три.
Как Илье Муромцу или Христу.
Когда она прочитала
"Погиб самый светлый парень",
Ей даже имя не нужно было – и так поняла.
И был сентябрь горячей кровью ошпарен,
и Оскол-река как из бутылочного стекла.
Звали её Надежда, но надеяться было не на что.
Сползала по стеночке.
Хоронили в открытом гробу, сдержать не могла вой.
Господи, почему.
Господи, для чего.
А потом подошла – такая уже, не юная
(Это её на иконах молодой рисуют, с младенцем),
Говорит: я своего тоже на руках баюкала,
Тоже потом хоронила – куда же деться.
А потом, говорит, восстал через три дня.
Так, говорит, и будет, слушай меня.
И открыла Надежда глаза – а рядом более никого.
И только плат на плечах чужой –
сияющий,
огневой.
Доверительность интонации, разговорность, информационные лакуны, словно в разговоре между своими: что значит «на временном расколе»? Понимающий – поймет.
И при этом смелость патетики, привлечение кодов национального сознания, одновременно и фольклорных, и христианских: как Илье Муромцу или Христу. Как будто переход в сказочно-мифологический пласт, а на самом деле передача очень жизненного переживания, о котором другими словами не скажешь. Потому что когда переживание так горячо, то в ход идут те слова, что под рукой. А под рукой у нас, ближе всего к сердцу, как раз вот эти бытовые слова и фольклорно-христианские образы, мифологемы национального бессознательного.
Еще в стихотворении – где-то отсутствие референтных индексов, «погиб самый светлый парень», а где-то, наоборот, даже как будто излишняя конкретика «отложил мечты когда-нибудь доехать к Байкалу», и Богородица, «уже не юная». За счет этого текст существует на нескольких уровнях сразу: это и реальная история, и символический образ нашего времени, и притча на все времена.
В стихах Долгаревой диалогически сочетается биографическое и мифологическое, документальное и притчевое, наивное и символическое. Фольклорная образность работает вместе с христианской, а смелость пафоса совмещается с интимностью интонации.
Метамодернистский текст существует вне привычной читательской оптики. Читатель привык оценивать произведение из определенной эстетической парадигмы: реализм, постмодернизм, массовая литература, классика. И не готов к тому, что все эти установки могут совмещаться в динамическом единстве. И вот читатели смотрят на метамодернистский текст каждый из своей плоскости – и он им кажется знакомым, но каким-то странным, нелепым. А значит, делают вывод читатели, с этими авторами что-то не так. Не умеют они… в литературу. Тогда как для того, чтобы увидеть метамодернистский текст целиком, читателю надо изменить восприятие – и вместо одной эстетической парадигмы оперировать сразу несколькими. Тогда он увидит метамодернистскую архитектуру такой, как она есть – динамической многоэтажной конструкцией.
Метамодернистская поэтика часто и с удовольствием использует шаблон, потому что умеет сделать так, чтобы он заиграл непрямыми, коннотативными значениями. Теми, которые берутся не из узуса, а из культурного фонда, из коллективного бессознательного. Как писал Юрий Тынянов, «употребление слов со стертым основным признаком влечет тем более сильное выступление колеблющихся признаков». Вот на этом тексты Долгаревой – в том числе – и работают.
Но для адекватного их понимания надо, чтобы к такой работе был готов и читатель. Ибо как именно будет воспринят и истолкован текст, зависит от читательского… сердца.
Об этом говорил Сократ.
СОКРАТ: «Вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка; у одного – из более чистого воска, у другого – из более грязного или более жесткого <…> мы делаем в нем оттиск того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими нами придуманного <…> Если в чьей-то душе воск глубок, обилен, гладок и достаточно размят, то проникающее сюда через ощущения отпечатывается в этом, как говорил Гомер, сердце души, а «сердце» у Гомера не случайно звучит почти так же, как воск, и возникающие у таких людей знаки бывают чистыми, довольно глубокими и тем самым долговечными <…> и этих людей зовут мудрецами.
Когда же это сердце, которое воспел наш премудрый поэт, космато или грязно и не из чистого воска и либо слишком рыхло, либо твердо, то <…> у тех получаются неясные отпечатки <…> Если же ко всему тому у кого-то еще и маленькая душонка, то, тесно наползая один на другой, они становятся еще того неразборчивее <…> Про таких говорят, что они заблуждаются относительно существующего» (Платон, «Теэтет»).
Мне кажется, способность к восприятию поэзии Долгаревой является таким камертоном «сердца души». Как сказал Андрей Рудалев, «она рождает мощное чувство, которое не оставляет человека с открытым сердцем равнодушным, не оставляет прохладным. Человек растет вместе с этим чувством, становится больше, чем он был до».