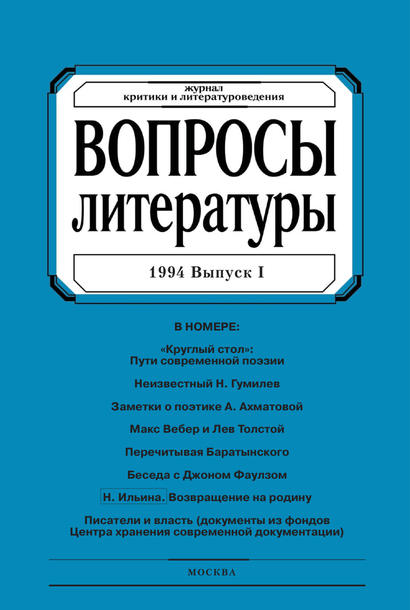Дерево и чайки в открытом окне. Беседа с Джоном Фаулзом
Перед глазами мелькал июньский пейзаж южной Англии. За рулем своего белого форда – Надя Кинен, та ленинградка, которую в поиске судьбы не остановили ни детдом, ни все эсэсэровские запреты, вместе взятые. За ее спиной – Ирина Скорер, жена внука легендарного «веховца» Семена Франка. Рядом я, литературовед, около пятнадцати лет «взламывавшая» двери библиотечных спецхранов, чтоб извлечь на белый свет произведения модернистов, и теперь оказавшаяся на дороге в Лайм-Риджис.
Последний поворот, и мы выходим на мол, свободной двадцатиметровой дугой врезающийся в море. Ветер срывает с меня и Нади cowboy hats (made in China). Ирина закуривает с чуть горькой усмешкой. Кричат чайки, опадая огромными белыми цветами на парапет.
Мол, чайки – это не просто приметы курортного английского городка и не литературная подробность из бестселлера 70-х «Подруга французского лейтенанта» Фаулза. Это словно некая реальность культуры XX века. Выйти на мол, насквозь продуваемый ветром с солеными брызгами, – будто выйти из привычных границ, оставляя за спиной столетие. Во всяком случае, с первой минуты разговора с Джоном Фаулзом в просторной столовой его дома окнами в сад поразило именно это – не ты задаешь вопрос, а твой вопрос оказывается способом проверки себя, твоей свободы мыслить.
Возможно, атмосфера дома, беседы – доброжелательная и вместе с тем провоцирующая на самостоятельный шаг – неизбежно побуждает говорить о свободе:
Н. Б. Что вы думаете об экзистенциализме? Об экзистенциалистском понимании свободы?
Д. Ф. Когда я поступил в Оксфорд, – я говорю о 1940-х, – экзистенциализм казался удивительным. Сартр, особенно Камю… сошли на нас, подобно яркому свету. Война была чем-то вроде полосы темноты, тени, и где-то там было это пространство света. Сейчас я не назвал бы себя экзистенциалистом, но я глубоко благодарен тому, что заставило меня в то время чувствовать, – вы знаете, я был тогда студентом. Поймите, я родился в несчастливое время. Вся учеба прошла в тени войны. Были бомбежки, с нами происходила вся эта жуть, нам твердили, что наш долг в жизни – сражаться за родину и т. д. Другими словами, нам промывали мозги. Нам твердили, что мы должны быть патриотами, не должны ставить под сомнение Британскую империю, – да много чего было. Слава Богу, Британская империя с тех пор канула в Лету. Но нам все время говорили, что мы должны быть хорошими винтиками, колесиками в обществе. Это наш долг в жизни. И, конечно, экзистенциализм был счастливой находкой. Поэтому я думаю, что как своего рода требование, жажда свободы экзистенциализм был со мной всю жизнь.
Мне кажется, одна из идей, которая не умерла, но была неверно истолкована историками, – это фашизм. И в это понятие, боюсь, я включил бы и Сталина, и даже сталинскую Россию.
Я считаю, что, во благо или во вред, идея свободы постепенно распространяется в мире… Очень медленно, правда, но именно она питала меня и мое творчество. А что вы думаете о свободе?
Признаться, в ту минуту я думала только об одном – как бы провести интервью. Поэтому вопрос, который в другой обстановке я готова была бы обсуждать часами, застал меня врасплох. Приготовившись записать подробный ответ писателя о влиянии на него Камю и Сартра, я услышала лишь сдержанную оценку, личные воспоминания и вопрос, обращенный к себе самой.
Хотя чему удивляться? Нам, критикам, свойственно находить параллельные движения в философии и искусстве.
Для художника же, и такой эрудиции, как Фаулз, прямой соотнесенности не существует. «Исследователи моего творчества порой делают из экзистенциализма слона, приписывая ему гораздо больше значения, чем я сам когда-либо придавал ему» 1, – отмечал он в письменном интервью Дж. Бейкеру в 1989 году. Для Фаулза «экзистенциализм – не философия, но способ оценки и использования других философий. Это теория относительности среди теорий абсолютной истины» 2. Аналог нонконформизма и одновременно школа скепсиса: «первым экзистенциалистом был не Киркегор, а Сократ» 3. В политическом смысле это антипод фашизма, полагает писатель, поскольку строится на «сопротивлении одного человека» коллективным формам социума и вере, не допускающей свободы выбора…
Возможно, кто-то упрекнет Фаулза в непоследовательности. Мне же вспоминался его первый роман «Коллекционер». Как там решалась проблема свободы?
Роман вышел в 1963 году и сразу стал бестселлером. Был экранизирован. Вызвал противоречивейшие толки. У романа поразительный сюжет.
Служащий Фредерик Клегг – ничем не примечательный молодой человек, если не считать пристрастия к коллекционированию бабочек, – вдруг выигрывает в лото большие деньги. Покупает на них дом в глуши.., чтоб заточить в подвале молоденькую художницу Миранду Грей, за которой долгое время прежде наблюдал с улицы. Она впервые его видит – он же говорит, что любит ее и хочет, чтоб она вышла за него замуж. Девушка пытается бежать – он усиливает надзор. Тогда она решает его «воспитывать», занимается с ним живописью, музыкой. Попутно ведет дневник, стараясь впервые в жизни разобраться в себе, отношениях со знакомым художником Дж. П. Но все впустую: они с Клеггом не понимают друг друга, говорят на разных языках. И тогда она делает отчаянный шаг: раздевается перед Клеггом, стремясь «разморозить» его и себя, разрушить стену непонимания. Клегг называет ее проституткой. Дальше – болезнь Миранды и смерть. Сначала он хочет покончить с собой, но, найдя дневник девушки, передумывает. Оказывается, все это время она размышляла не о нем. В финале Клегг высматривает новый «объект»…
Что это – история о маньяке и его жертве? проявление «скрытого фашизма автора» (было и такое крайнее критическое суждение)?.. Впрочем, на раздумья наводит уже само заглавие – «The Collector». У нас его перевели как «Коллекционер», подчеркнув вроде бы напрашивающуюся аналогию между Мирандой и бабочкой, Клеггом и коллекционером. Да и сама героиня романа об этом говорила. Но в том-то и дело, что в художественном мире Фаулза подобное – явный признак игры с читателем, испытывающей его на соблазн повторить готовое решение.
Да, Фаулз известен своей иронической привычкой проверять всех на свободу мысли. В эпилоге к последнему роману «A Maggot» (1985) он пояснил: «До тех пор пока не передан, не «сработал» скрытый смысл наших тропов, мы, романисты, до смешного нуждаемся… в метафорическом допущении со стороны читателя».
Метафорой же английское слово «collector» становится благодаря своей латинской основе: «colligere» в переводе означает «связывать», «соединять»… «быть со-читателем», наконец, поскольку слово перекликается и с латинским «lector» – читатель. Но никак не «коллекционировать»! Заглавие, таким образом, – метафора не столько бессознательного влечения одного Клегга к насилию и разрушению, сколько более общей ситуации. Вспоминается один из фаулзовских образов: человечество – путники на плоту, соединенные общей судьбой потерпевших кораблекрушение. «Это подобно тому, как вместе потерпеть кораблекрушение – на острове или на плоту. Быть во всех отношениях чужими друг другу. И при этом быть вместе» 4.
Эта метафора человечества-корабля в штормовом море, известная еще со времен Алкея и Горация, у Фаулза соотнесена с вопросами жизни, искусства, свободы. Что дает жизни искусство? Несет ли оно свободу? – один из акцентов его метафоры. По первому роману получается, что далеко не всякое искусство помогает жить другим, выживает само, приносит свободу. Кстати, какими предстают в романе «искусство» и «жизнь»?
Полярность Клегга и Миранды очевидна. Она в их именах, подчеркнуто ассоциирующихся с Мирандой и Калибаном, ставшими литературными знаками красоты и уродства, искусства и посредственности, а в случае с Клеггом – и с рядом фонетически близких слов (clegg, clog, clod – то есть «прах», «ком», «дурень», «олух», «препятствие», «колодка», «башмак на деревянной подошве»). Различие между Мирандой и Клеггом заставляет думать о вечной противопоставленности искусства неокультуренной почве жизни, абсурдной сопряженности разных начал бытия, а возможно, и о факте отстраненности современного искусства от жизни, об избранничестве немногих…
И все же, как решался вопрос свободы в том первом романе?
В ситуации «двоих на плоту» обнаруживается, что каждый по- своему зажат и скован. Клегг пребывает в условностях морали, псевдоромантических грезах о любви, браке, чистоте. Миранда же полна подростковых максималистских представлений об искусстве, художнике-гении, недоступном для толпы; по ее словам, она даже не подозревала о существований таких «серых» личностей, как Клегг.
Встреча двоих становится проверкой искусства на слух, ответственность, свободу. Дано ли сегодня Миранде уловить за «нулевыми», с ее точки зрения, сознанием и речью Клегга отчаянное и бесценное стремление к красоте и поддержать его и тем самым дать жизни выход? Или затверженные истины об искусстве, существовании, добре и зле окажутся в ней настолько прочными, что она не сможет от них освободиться? Не об этом ли сложном и тонком процессе ежеминутного выбора роман? Здесь все нерешенно и зыбко. Да, какие-то шаги Миранды вселяют надежду на то, что с помощью искусства жизнь обретет выход. Какие-то, наоборот, – например, брошенный в Клегга топор, – внушают отчаяние. Порой ход дневниковых записей Миранды наводит на мысль: еще немного – и выход будет найден. А убывающие с каждым днем надежды Клегга, его ненависть и злость говорят о другом. Главное же – идет время. Разрастаясь, опухоль общей несвободы отравляет Миранду, пускает метастазы фашизма в душе Клегга.
Искусство и жизнь, таким образом, в финале разведены еще больше, чем в начале романа. Умирающая художница рисует небо, а «почвенный» Клегг отпускает зловещую фразу о том, что в подвале дома, где он поселит новую девушку – «попроще Миранды», – он обязательно устроит печку…
И здесь начинаются вопросы. Что есть для Фаулза искусство? Как соотносится оно с жизнью? Что в современном искусстве, по его мнению, сдерживает свободу, мешает выжить?
Думаю, приблизительно такие вопросы ставит перед читателем первый роман, в котором густо рассыпаны зерна больших и малых фаулзовских тем. Прояснить последние было, наверное, необходимо – во всяком случае, появление второй большой книги – «Аристос» в 1964 году не кажется неожиданностью.
«Аристос» раздвинул творческое пространство Фаулза. Если в первом романе автор прятался за героями, то здесь он выносит свое Я на свет: подзаголовок «Философский автопортрет» недаром сопровождал первые издания книги.
В ней есть честность свободного поступка. Попытка заговорить напрямую о больных вопросах. Указав во вступлении, что он «в первую очередь поэт и лишь затем ученый» 5, Фаулз смело «вторгается» в философию, этику, психологию, нарушая привычные границы прав романиста и этим выявляя скрытый смысл заглавия «Аристос», что в переводе с древнегреческого означает «лучшее в данной ситуации».
Это и впрямь особая книга: и по роли ее в творчестве писателя, и по манере исполнения, и по замыслу.
Начатая еще в студенческую пору, она во многом определила становление романиста. И спустя четверть века Фаулз признавал: «Аристос» предшествовал моим романам и значительно на них влияет» 6.
Влияние это отчасти связано с формой: открыто публицистической, как сказали бы мы. Таких книг Джон Фаулз больше не писал. В беседе со мной он не раз подчеркивал существенное различие между игровым началом творчества прозаика и чисто семантической, «философской» его стороной.
Тем не менее в 1964 году Фаулз смело пошел на публикацию «идеологической» книги, вопреки советам друзей, которые искренне отговаривали его от этой «безумной» затеи, считая, что ни денег, ни славы она ему не принесет.
И в этом поступке писателя виден характер.
Книга написана в форме заметок «не по лености, – как заметил он во вступлении, – но из-за желания снять риторику, искусы стиля… Я не хочу, чтоб мои идеи нравились просто потому, что они интересно изложены. Я хочу, чтоб они нравились сами по себе» 7.
Главную идею определил он сам в предисловии 1968 года: «свобода личности, вопреки всем механизмам подавления, угрожающим нашему столетию» 8.
Вопрос этот поставлен в «Аристос» широко в связи с целым спектром проблем философии и естественной истории, науки и психологии, религии, культуры, искусства и литературы.
Отдельная глава, например, посвящена оценке христианства, гуманизма, социализма, фашизма, экзистенциализма с позиции свободы человека. А рассматривая, скажем, вопросы психологии, он без всяких претензий на научность выделяет «комплекс немо», или «стирания» своего Я, характерный, по его мнению, именно для сознания людей XX века.
Естественно, культурный фон книги очень широк, включает Древний Восток, античность, средневековую и ренессансную Европу. И что особенно важно – здесь «открытым текстом» обсуждаются явления, которые вскоре станут темами фаулзовской прозы. Так, интересно проследить, как приводимое ниже замечание автора о значимости тайны и вреде ее разрушения, заставляющее вспомнить древних, будет затем развернуто, «разыграно» в романе «Маг»: «Тайна, или незнание, есть энергия. Как только тайна объяснена, она перестает быть источником энергии. Если копать очень глубоко, наступает момент, когда ответы… убивают» 9.
Отдельный раздел «Аристос» посвящен искусству, взглядам писателя на его место и роль.
По мнению Фаулза, искусство – эта уникальная самодостаточная область – находится в очень сложном взаимодействии с миром, природой, человеком, социумом, этикой, воспитанием и т. д. Сложность же определяется общим конфликтным состоянием мира, представленным в «Аристос», в частности, так: «При нашем врожденном стремлении выжить нам кажется, что материей во времени управляют два противоположных принципа: Закон, или организующий принцип, и Хаос, или принцип беспорядка. Эти два процесса, один из которых, на наш взгляд, упорядочивает и создает, другой – разрушает и все путает, находятся в вечном конфликте. Конфликт этот и есть существование» 10. От реального драматизма человеку свойственно закрываться паллиативами, – эту мысль, имевшую хождение еще на рубеже столетий, Фаулз явно поддерживает. Отголоски тех ницшеанских настроений слышны и в его словах о том, что один из источников самообмана – привычка верить в абсолюты. Но какой интересный поворот придает этой философеме Фаулз! Он полагает, что сознание относительности сущего должно обратить человека к реальности и, поставив его перед вопросом свободы и постоянного выбора, сосредоточить на настоящем. «Снаружи холодно и одиноко, – предупреждает мать, но однажды ребенок выходит из дома, – пишет он в «Аристос». – Этот век – все еще наша первая прогулка, и нам зябко: мы чувствуем себя более свободными, но и одинокими тоже. Наше штампующее общество заставляет нас ощутить свое одиночество. Оно отштамповывает на лицах маски и прячет наше подлинное Я. Мы все живем в двух мирах: привычном уютном мирке абсолютов, вращающемся вокруг человека, и – жестком реальном мире относительностей. Этот последний – относительная реальность – ужасает нас, изолирует и превращает в карликов» 11.
Здесь заметно одно из расхождений между Фаулзом и экзистенциалистами: Сартра от обыденной действительности тошнит, Фаулз пытается в нее всмотреться. Человечество, по его мысли, сильно задолжало настоящему из-за того, что в погоне за иллюзиями часто не осознает своего положения «человечества на плоту… в безбрежном океане… en passage12»13.
Его предложение?
Стать «канатоходцем». То есть постоянно искать неуловимую относительную точку равновесия в мире, где любой свободный шаг нарушает ложные стереотипы и приходится каждый раз заново искать сместившийся центр тяжести. Он видит в этом одно из условий относительно здорового состояния человечества. Искусство же в процессе самоопределения имеет, говоря языком Фаулза, «божественный смысл акта вмешательства свободной воли в инертную материю» 14. «Свобода, – продолжает он, – есть внутренняя суть настоящего искусства, равно как и науки. И то и другое есть по существу разрушитель тирании и догмы, разъедатель окаменелости, сокрушитель железа. Вначале художник может сопротивляться просто потому, что способен выразить сопротивление. Но затем однажды его сопротивление, которое он сумел выразить, начинает выражать его самого. Искусство отныне его обязывает. Стихотворение, которое я пишу сегодня, завтра пишет меня» 15.
Эти две парадигмы:
мир свобода
несвобода искусство
окаменелость вмешательство в инертную
материю
безвременье время –
связаны для Фаулза, как вопрос и ответ. Художнику важно видеть и знать реальность мира. Определиться в вопросах века, и прежде всего в отношении к главному мифу столетия: «Сегодня все философы вынуждены продавать себя почти по-рыночному. Короче говоря, наша безумная жажда денег – этот очевидный всеобщий источник неравенства и, следовательно, несчастья – окрашивает все наше существование и все способы видения жизни. Иметь, но не быть – вот девиз нашего времени» 16.
А как соотносятся искусство и вера? Казалось бы, ответ заведомо ясен у писателя, который отрицает веру в абсолют, поскольку именно в ней находит почву для всевозможных иллюзий и самообмана. Но и здесь все не так просто. Когда в «Аристос» Фаулз замечает: «Бог – это ситуация» 17, то, похоже, это развитие все той же мысли о мере свободы человека на самостоятельный шаг, выбор. И тут я начинаю понимать: «божественным», духовным в искусстве для Фаулза является не тема или принадлежность к той или иной религии, но особое его качество – как сказал он сам, «ностальгия по лучшему миру… лучшему метафизическому состоянию, чем то, которое есть» 18.
В этом определении искусства слышатся отголоски разных культурных традиций. И модернистской идеи ссыльной судьбы художника, и экзистенциалистской тоски… И, как ни парадоксально, общего пафоса европейского гуманизма. Кажется, монтеневская позиция сомнения и просвещенной мысли оживает в словах писателя о разуме как условии и критерии свободного движения: «То, что нас ждет, напоминает крутой, почти отвесный подъем или переход, на котором нам необходимы смелость и разум. Смелость – чтоб идти дальше, не сворачивая; разум – чтоб разумом жить: не страстью, не ревностью или завистью, но именно разумом. Разум должен направлять нас, с его помощью мы должны лавировать, ибо от многого придется отказаться» 19.
И это не случайные переклички. Неущербное развитие человека в естественном диалоге с природой и социумом, воспитание просвещенного и свободного ума- эти идеи Фаулза явно гуманистического свойства. Скажем, взгляд писателя на воспитание и образование едва ли соответствует духу XX века с его идеалом профессионального техницизма или утилитарному функционализму XIX столетия. Зато он явно родствен натуре ренессансного художника: та же насыщенность и осязаемость знания, та же соотнесенность с общим ландшафтом культуры, те же гедонизм и интроспекция, то же осознание себя во взаимодействии с миром… Впрочем, послушаем Фаулза. «В настоящее время, – отмечает он в «Аристос», – наше образование подчинено двум целям: принести доход государству и обеспечить человеку прожиточный минимум. Разумеется, не удивительно, что общество помешано на деньгах, поскольку весь настрой образования таков, что помешательство это выглядит и нормальным, и желанным. Несмотря на тот факт, что сегодня мы имеем почти всеобщее образование, в качественном отношении мы представляем собой одну из наименее образованных эпох именно потому, что образование повсюду оказалось подчинено экономическим целям. Относительно более добротным образованием, чем наше, пользовались немногие счастливчики в XVIII веке, в эпоху Возрождения, в Древнем Риме и Греции. Во все эти эпохи задачи образования были гораздо более высокими, чем при нынешней системе. Они замечательно помогали ученику обрести понимание и наслаждение жизнью и осознать свои обязанности перед обществом. Конечно, дисциплины старого классического образования сегодня во многом устарели; и, разумеется, та модель была продуктом в высшей степени несправедливой экономической системы; но в лучших своих проявлениях она давала то, к чему ни одна из современных школ даже отдаленно не может приблизиться: полноту личности» 20.
И тут вспоминаются фигуры и повороты действия в романах Фаулза, которые выглядят подчас какой-то загадкой. Художник Бресли из новеллы «Башня черного дерева». Сара из «Подруги французского лейтенанта» в мастерской прерафаэлита Д. Г. Россетти. Финальный эпизод «Дэниела Мартина» с главным героем, застывшим перед автопортретом Рембрандта. Все они отмечены полнотой жизни, отчетливо ассоциирующейся с искусством и литературой прошлого. Почему, интересно?
В предисловии к «Аристос» писатель отметил, что афористичная манера и исповедальность книги навеяны Монтенем и Паскалем. «Я всегда очень любил Монтеня, – говорит Джон Фаулз. – Он вообще кажется мне одним из самых здоровых и привлекательных в интеллектуальном отношении европейцев, которые когда-либо жили, и это он наставил меня на путь гуманизма, которым я с тех пор следую» 21. Свои симпатии к философии XVI-XVII веков, раннесредневековым французским романистам, поэтам конца XIX века – Бодлеру, Малларме, Лафоргу – Фаулз объясняет так: любой, кто «ищет культуру», по его словам, обращается к романской ветви Европы. И потом, романисту Фаулзу кажется полезной встреча с тем, чего нет в его собственной национальной традиции…
Впрочем, наверное, есть и другие причины «пожизненной» влюбленности Фаулза в искусство античности, Ренессанса, Нового времени. Задаю вопрос:
Н. Б. Какое искусство привлекает вас более всего?
Д. Ф. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что в действительности мне интересно все искусство. Есть определенные его виды, которые удовлетворяют меня гораздо больше, чем другие. И если б мне пришлось объединить их одним словом, то я бы назвал их «гуманистическим искусством». Я – гуманист номер один. Я верю в гуманизм, который в философском смысле потерпел крах. Его очень трудно обосновать, как и невозможно строить какую-либо практическую политику на том, что ты – гуманист. И тем не менее я им остаюсь.
Н. Б. Что вы понимаете под гуманизмом в историческом смысле?
Д. Ф. Для меня это всегда часть человечества, которая тянется к большей свободе… большей свободе каждого. Именно поэтому я очень профеминистичен.
Н. Б. В «Коллекционере» вы говорите, что люди боятся реальности. Значит ли это, что они боятся реальности потому, что она заставляет их думать о смерти?
Д. Ф. Думаю, что да. Вероятно. А реальность – она там! (Показывает на двери, открытые в сад.) Но, как мы все знаем, это лишь одна, причем поверхностная, разновидность реальности. Вы знаете, что ученые, специалисты – любой, обладающий специальными знаниями, – ответили бы по-другому. Так что в каком-то смысле, чем больше ты знаешь, чем глубже проникаешь в разнообразные формы реальности, тем острее осознаешь смерть. Другими словами, нам повезло, что мы не можем заглянуть в реальность глубже. Во-первых, я полагаю, что это сделало бы мир, пожалуй, еще более несчастливым. Да, думаю, уже сейчас делает его несчастнее. Вы знаете эту главную тему популярных описаний происходящего в науке. Я не думаю, что это делает людей счастливее. Скорее любому внушает мысль: о, я знаю больше, о как хорошо! Я больше знаю, поэтому, возможно, я получу больше денег, раз я больше знаю. Но, мне кажется, это затрудняет обычную жизнь людей.
Н. Б. Но не вы ли сказали в «Аристос», что «единственной альтернативой страдающей свободе есть нестрадающая несвобода» 22?
Д. Ф. О да, конечно, совершенно так, разумеется… Мы говорим с вами о нормальных людях или о таких чудаках, как я? Я всегда стремился к большему знанию.
Н. Б. Вы коснулись одного из принципиальных вопросов – границы между несколькими и многими. Как вы писали в «Аристос», она, по вашему мнению, должна проходить по человеку, но не между людьми. Вы до сих пор в это верите?
Д. Ф. Да, полностью. Границы… Я не думаю, что большая часть человечества достаточно зрела для того, чтоб повернуться лицом к реальности серьезно. Едва ли мы сумеем это сделать. Поэтому мы должны жить.., как бабочки, порхать с цветка на цветок. Короче говоря, мы должны признать, что мы эфемерны, что жить нам один день. И принять это.
Н. Б. Ваши слова о незрелости человечества напомнили мне о Т. С. Элиоте, который в своем эссе «Что такое классик?» сказал, что мы живем в век растущего провинциализма. Он имел в виду не географию, конечно, но, по его выражению, провинциализм бытия, провинциализм времени и реальности. Когда никто или, во всяком случае, очень немногие думают о мертвых так же, как они думают о живых когда история становится набором использованных орудий, которые остается лишь выбросить на свалку.
Д. Ф. Не забывайте, Т. С. Элиот верил истово в заповеди Господни. Потому что, как вам известно, он был католик. Я – не католик, и я не верю в заповеди Господни. Так что скорее всего он имел в виду провинциальность человечества в этом смысле. Верно, но, мне кажется, я ближе к правде, чем он. Т. С. Элиот – один из великих поэтов моего времени. Боюсь, я терпеть его не могу как католика, хотя осознаю, что это было весьма необходимо для его поэзии. Другой великий поэт моего поколения – это Филип Ларкин. Читали его?
Н. Б. Да.
Д. Ф. Я очень ценю этого поэта. Филип Ларкин ненавидел заграницу, терпеть не мог иностранцев, – вы наверняка знаете все эти подробности. И есть у него другие недостатки, которые я не выношу… И все же, подобно Т. С. Элиоту, он один из тех редких людей, которые выражают твое время. Он писал волшебную, сокровенную поэзию.
И я подумала, что, наверное, и сам Фаулз ищет это же – тайну, магию, волшебство. Важное качество бытия, что он называет «тайной», сродни источнику случая, жизни. Это состояние или миг наполненности, когда «может случиться все что угодно», – заметил он в предисловии 1976 года к роману «Маг». (1965). И это прямо связано, видимо, полагает писатель, с процессом творчества. Для него существует внутреннее родство между судьбоносным мигом жизни – и чувством художника, замершего перед чистой страницей. Между ожиданием неведомого, которое испытывает всякий, вступая в лес, – и состоянием романиста, блуждающего тропинками сюжета в поисках неуловимого прекрасного.
- John FowIes, The Art of Fiction, Lnd., 1989, p. 47.[↩]
- J. FowIes, The Aristos, Lnd., 1980, p. 123.[↩]
- Ibidem, p. 122.[↩]
- J. FоwIes, The Aristos, p. 199.[↩]
- J. FоwIes, The Aristos, p. 13.[↩]
- John Fowles, The Art of Fiction, p. 48.[↩]
- J. Fоwles, The Aristos, p. 13.[↩]
- Ibidem, p. 7.[↩]
- J. FоwIes, The Aristos, p. 28.[↩]
- Ibidem, p. 14.[↩]
- J. FоwIes, The Aristos, p. 39.[↩]
- Проездом (франц.).[↩]
- J. Fоwlеs, The Aristos, p. 157.[↩]
- John Fowles, The Art of Fiction, p. 81.[↩]
- J. Fоwles, The Aristos, p. 157.[↩]
- J. FоwIes, The Aristos, p. 124.[↩]
- Ibidem, p. 22.[↩]
- John Fowles, The Art of Fiction, p. 54.[↩]
- J. Fоwles. The Aristos, p. 45 – 46.[↩]
- J. FоwIes, The Aristos, p. 141.[↩]
- John FоwIes, The Art of Fiction, p. 45 – 46.[↩]
- J. FоwIes, The Aristos, p. 18.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Статья в PDF
Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №1, 1994