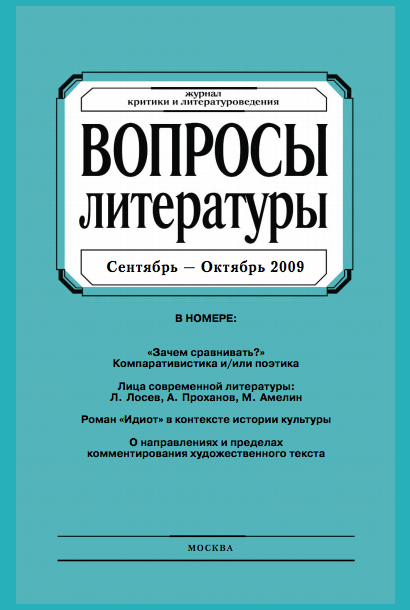Зачем сравнивать? Компаративистика и/или поэтика
В журнальной рубрике «Сравнительная поэтика» может показаться странным появление статьи с таким названием и с таким подзаголовком. Разве само существование подобной рубрики не снимает вопрос и не делает проблему в подзаголовке общим местом современной науки о литературе?
При том, что в название вынесены два ключевые для статьи понятия, основная проблема сосредоточена не в них, а в соединяющих их союзах: и/или. Два союза предполагают три варианта возможных отношений между компаративистикой и поэтикой:
то ли они сосуществуют, дополняя друг друга;
то ли взаимоисключаются (или… или);
то ли представляют собой два варианта названия одного и того же: компаративистика или (иначе говоря) поэтика.
В момент рождения компаративистики (сравнительного изучения литератур) и на протяжении почти всей второй половины XIX века, если рядом с компаративистикой и возникала поэтика, то по принципу альтернативности. Впоследствии они то сближались, то отдалялись друг от друга в зависимости от того, каким был общий теоретический климат в гуманитарных науках. И, наконец, сегодня их пути разошлись столь же резко, как в начале их сосуществования.
Тогда, в середине XIX столетия, слово «поэтика» еще слишком явно отзывалось школьным знанием с его неизжитой ориентацией на поэтику, осененную авторитетом Аристотеля и превращенную поколениями его комментаторов в нормативное предписание. Теперь, как будто в отчаянии махнув рукой на все попытки создать какую-либо новую ненормативную поэтику, ее снова сдали в багаж архаического знания о литературе. Если слово и имеет хождение в языке тех, кто не боится прослыть безнадежным архаистом, то в сочетании «поэтика культуры». Этот термин Ю. Лотмана был широко подхвачен — в основном для того, чтобы отделить понятие «поэтики» от ее прежнего предмета — литературного текста. Наиболее известный случай именно такого его использования — «новый историзм» Стивена Гринблатта.
Впрочем, «новый историзм» не исключение, а закономерность, согласно которой «текстуальность истории» запрещает устанавливать какую-либо иерархию текстов, а фактически — обращать внимание на их специфику. Для поэтики в этих условиях нет места. Она — вредный пережиток старого сознания, связанного с понятиями «вкус», «поэтическая речь» или «художественность».
В романе «Пнин» у Набокова есть объяснение тому, почему герой не смог сделать карьеру в качестве преподавателя французского языка в американском колледже. Он говорил по-французски. А его непосредственный начальник, возглавляющий кафедру, не только не говорил, но полагал, что это вредит делу преподавания.
Сатирический штрих, беглая характеристика одного персонажа или одной культурной ситуации?
Как часто бывает, писатель создает, даже мельком и бегло, ситуации, имеющие эмблематическое значение, которое в данном случае может быть принято за эмблему отношения к поэтической речи в условиях постструктуралистского теоретизма. Чем меньше поэтической речью владеть, чем меньше ее понимать, тем легче овладеть ею как текстом, безличным и безголосым.
В том или ином наборе терминов было уже бессчетное число раз сказано и повторено, что автор умер, филологический проект закончился, все большие дискурсы исчерпаны, литература как таковая более никому не интересна и, если мы еще хотим ее спасти, нужно срочно отдать ее в ведение новой социологии, культурологии и прочая, и прочая.
Это направление мысли стало теоретическим кредо и обоснованием культурной ситуации конца ХХ века. Fin-de-sifcle снова явил себя то ли гамлетовским ощущением времени, вышедшего из пазов, то ли декаданса, имя которому на этот раз — постмодерн. В конце века естественно ожидать конца всего. Его ожидали, его и провозгласили, но в ожидании на этот раз преобладало не апокалиптическое уныние, а какое-то наэлектризованное карнавальное возбуждение.
Не апокалипсис отзывается в нынешнем предсказании универсальной завершенности, а пристрастие массового сознания к остросюжетности действия и сенсационности финала. Мы хотим, чтобы при нас завершились все многовековые сериалы из истории культуры, мы хотим знать их конец, присутствовать при нем — и торопим его наступление.
Постмодерн, в сущности, есть явление не элитарного сознания, а элитарной рефлексии по поводу неизбежного прихода масс, каковой нужно оправдать теоретически и к которому следует подготовиться на практике. Одним из следствий неизбежного торжества массового вкуса в литературе должно быть полное равнодушие к литературе как искусству слова. Зачем ждать, пока неизбежное случится? Поторопимся и встанем впереди идущих. Это лучше, чем опоздать и остаться в числе лузеров. Отсюда почти истерическая боязнь не успеть, не заметить чего-то, почитаемого новым, и не истребить чего-то, почитаемого старым, в себе и в других.
Для этого сознания «поэтика», безусловно, — в арсенале старого. Вместе с самой литературой. Для философов, теоретизирующих по поводу литературы, и литературных теоретиков эпохи постмодерна расставание с нею не было ни долгим, ни трудным. В какой-то степени оно закрепило status quo и подкрепило старое подозрение, что занятие литературной теорией, мягко скажем, далеко не всегда сочетается с пониманием литературы.
То, что действительно отличает русских формалистов (вслед Веселовскому) от их оппонентов, так это требование, занимаясь литературой в любых сочетаниях (история литературы, социология, культурология), не терять из виду природы поэтического слова. А если перевести это требование с языка терминов на естественный язык, то для того, кто занимается литературой, продуктивно понимать то, чем он занимается: обладать слухом, вкусом и не стесняться их наличия.
Если вернуться к примеру с неудачной карьерой Пнина, на свою беду говорившего по-французски: я полагаю, что преподавать иностранный язык будет лучше тот, кто на нем говорит. Хотя, разумеется, преподавание языка и умение на нем говорить — это не одно и то же.
Таков современный теоретический контекст отношений поэтики и компаративистики, имеющих свою историю — взаимного притяжения и взаимного отталкивания.
При разговоре с писателем у литературоведа нередко возникают трудности, неведомые в своем профессиональном кругу. Писатель склонен задавать вопросы, недопустимо простые: полезно ли поэту знать ритмические схемы; поможет ли прозаику теория жанра или поэтика сюжета? А если обобщить эти вопросы, то — какое отношение к творчеству имеет наука, изучающая его законы и его историю?
Можно сетовать на наивность этих вопросов. Можно отшучиваться, говоря, что ученый, ставящий опыты на лягушках, не обязан вступать с ними в беседу и объяснять им свои действия.
Однако взглянем на эти сомнения и с другой стороны: приносят ли они что-либо ученому, кроме праведного раздражения на пишущую лягушку, упорствующую в своем нежелании отрефлектировать творческий процесс? Сколь бы наивными эти вопросы ни были, они возвращают к предмету исследования, который рано или поздно теряется из виду в терминологических завалах и в теоретических хитросплетениях, сопутствующих любой научной парадигме накануне очередной научной революции. Наивные вопросы звучат особенно остро и заманчиво в периоды кризиса.
На фоне именно такого кризиса, охватившего сравнительное литературоведение в 1950-х годах, известный американский компаративист Гарри Левин вспомнил, как представил своего коллегу великому валлийскому поэту Дилану Томасу. Услышав о литературной специализации нового знакомого, изучающего литературу сравнительно (comparatively), поэт поинтересовался: «»С чем же это вы ее сравниваете?» — И в своей неподражаемой и не ведающей запретов манере в качестве предположения озвучил односложное слово, которое я не могу позволить себе здесь повторить»1.
К тому времени, когда Дилан Томас задал своей неудобный вопрос, весь цивилизованный мир уже добрую сотню лет изучал и преподавал литературу сравнительно. Так что под сомнение были поставлены тысячи страниц научных трудов, десятки университетских кафедр и журналов, ежегодных конференций и конгрессов.
Зачем сравнивать? Если освободить наивный вопрос от его подрывной интенции («А король-то голый!») и рассматривать как поиск первоначальной информации об определенной сфере знания, то такого рода информация должна была бы содержаться в элементарных пособиях или справочниках.
И тут оказывается, что элементарного, но сколько-нибудь общепринятого пособия по компаративистике на русском языке нет (хотя в последние годы курс включен в программу многих университетов). Если быть совсем точным, то одна попытка все-таки состоялась — в переводе на русский язык со словацкого: Диониз Дюришин «Теория сравнительного изучения литератур» (М., 1979). Словацкого коллегу можно только поблагодарить за то, что он освоил труды А. Веселовского, В. Жирмунского и других русских ученых, поскольку именно на их основе создан его популярно-обобщающий очерк, которым на протяжении уже тридцати лет как единственным (!) пособием по предмету пользуются русские студенты. Пользуются в тех редких библиотеках, где его сегодня можно найти. Странно, но факт.
Да и не только для студентов Дюришин закрыл своей книгой перспективу развития мировой компаративистики настолько, что начал казаться первоисточником проблем, у которых долгая история: «После того как Д. Дюришин показал, что между взаимодействием различных текстов внутри национальной литературы и текстами разных литератур, с точки зрения механизма контакта, существенной разницы нет, значимость этих положений с точки зрения компаративистики сделалась очевидной»2.
До Дюришина в течение нескольких лет этот вопрос дебатировался в полемике между американскими и французскими компаративистами. Но едва ли есть основание полагать, что кто-то из них, равно как и Дюришин, закрыл тему. Не теряет своей силы наблюдение Ю. Тынянова: «В истории литературы еще недостаточно разграничены две области исследования: исследование генезиса и исследование традиций литературных явлений; это области, одновременно касающиеся вопроса о связи явлений, противоположных как по критериям, так и по ценности их относительно друг друга. Генезис литературного явления лежит в случайной области переходов из языка в язык, из литературы в литературу, тогда как область традиций закономерна и сомкнута кругом национальной литературы»## Тынянов Ю. Н. Тютчев и Гейне // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.:
- Levin H. Comparing the Literature? // Yearbook of Comparative and General Literature. 1968. № 17. P. 5.[↩]
- Лотман Ю. М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. С. 111.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Статья в PDF
Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №5, 2009