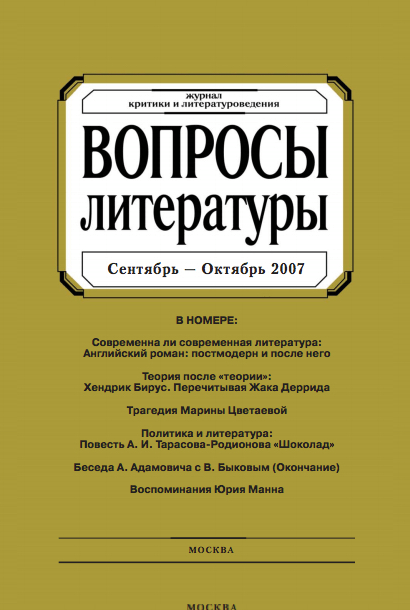В пятидесятые и позже (Эпизоды). Часть 2
Начало см.: Вопросы литературы. 2001. N 2.
ДДК
Наверное, сегодня немногие смогут расшифровать эту аббревиатуру, но в свое время она была довольно известна. Ну не так, как, скажем, ЦСКА или МГУ, но все-таки… Ибо в конце чуть ли не каждой детской книги помещалась просьба присылать отзывы и предложения в связи с этой книгой в Дом детской книги, то есть в ДДК.
ДДК возник в первые послевоенные годы с целью содействовать развитию действительно замечательного явления, какое представляла собою советская детская литература (известно, что многие выдающиеся писатели, изгнанные из литературы «взрослой», нашли здесь приют и возможность применения своего таланта). Под новое учреждение был отдан весь первый этаж нового здания на улице Горького; тут расположились и лекторий, и библиотека, и кабинет критики, и кабинет изучения читательских мнений, и другие отделы. (Я часто прохожу мимо этого дома – на 1-й Тверской-Ямской, N 13; вместо ДДК здесь мебельный салон, мужская одежда от BOSSa, «Ситибанк», ювелирный салон «Ринго» – словом, превращение известное; два-три года назад сохранялась еще библиотека, теперь вместо нее – ресторан «Инжир».)
Должен сказать, что я заходил в ДДК еще летом 1952 года, во время трудных поисков работы; но меня, разумеется, не взяли. А вот весной 1955-го, при первых признаках «оттепели», директор Дома Серафима Тимофеевна Любимова сама разыскала меня и не без удовольствия объявила: теперь я могу вас принять. Так из школы рабочей молодежи я перешел в ДДК.
При всех благих целях нового учреждения в самом его основании было заложено неустранимое противоречие. С одной стороны, ДДК должен был представлять объективную картину развития детской литературы, реального спроса на те или другие произведения или жанры. С другой стороны, ДДК находился в полном подчинении у Детгиза, в ту пору монополиста в этой сфере деятельности, и функционировал как его отдел. Вот и получалось по результатам «исследований», что дети и подростки читают именно то, что надо читать, то есть то, что нравится начальству. А начальству, по понятным причинам, нравились плоская назидательность, патриотическая риторика, навязчивое повторение прописных истин.
И вот вместе с моим коллегой по ДДК Владимиром Шевелевым – впоследствии он стал сотрудником Егора Яковлева и заместителем главного редактора «Московских новостей» – мы опубликовали статью «Критик… на дому» («Комсомольская правда». 1960. 25 октября). Смысл статьи понятен уже из ее названия: Детгиз завел себе удобного домашнего критика, и, чтобы дать этому критику возможность говорить правду, надо освободить его от ведомственной опеки.
Казалось бы, очевидная и совсем не опасная истина! Но тут-то мы узнали, что помимо общих и, так сказать, государственных препон существуют еще локальные, преодолеть которые не менее трудно. Мысль об отделении Дома детской книги от Детгиза воспринималась как призыв к отделению его от советской власти. Мои товарищи по ДДК, молодые сотрудники Валя Близненкова, Нина Пильняк, а также сотрудники постарше – Николай Яснопольский и Таисия Жарова (оба участники Отечественной войны), горячо нас поддержали, но большинство было против, не говоря уже о начальстве, которое увидело в совершенно невинной (по нынешним временам) публикации «Комсомольской правды» чуть ли не попытку контрреволюционного переворота. Таковы бывают аберрации треволнений и конфликтов местного значения.
А потом на эти местные треволнения наслоились бури посильнее и посерьезнее: разоблачение «культа личности», первые шаги реабилитации – все это совпало для меня с работой в ДДК.
В это время в Доме детской книги появился человек, на своей судьбе испытавший все прелести сталинской эпохи, – Лев Эммануилович Разгон. В свое время он был очень активным деятелем детской литературы, дружил с ее корифеями – с Самуилом Маршаком, Львом Кассилем, Агнией Барто, потом объявлен врагом народа, провел в тюрьме и лагерях около двадцати лет – и теперь, после реабилитации, назначен заместителем директора ДДК по научной работе.
Первое время Лев Эммануилович был очень осторожен. Помню, как-то нас вывели на демонстрацию, то ли первомайскую, то ли октябрьскую (тогда это было обязательное мероприятие). В тот год милиционеров нарядили в какие-то необыкновенно яркие мундиры с серебряными поясами, позументами и проч. «Как Вам это нравится?» – спросил я Разгона, указав на одного такого. «Да, да очень красиво», – был ответ. «А по-моему, вылитый индейский петух с наганом». – «Конечно, петух», – рассмеялся Лев Эммануилович.
Вскоре Лев Эммануилович повел себя совершенно естественно, дав волю своему замечательному остроумию и живости; он казался очень легким человеком, о прошлом старался не говорить, разве что на память приходили некие комические детали этого прошлого. Так, одному из его соседей по предварительному заключению (рассказывает Л. Э.) следователь предъявил обвинение в распространении контрреволюционной идеи – будто Маркс и Энгельс считали невозможной победу социализма в одной стране. «Какое счастье, что тебя обвиняют именно в этом!» – сказал Разгон своему соседу. И посоветовал: «Ты поясни – Маркс и Энгельс считали невозможным, а Ленин и Сталин, творчески развивая их учение, доказали, что это возможно». Обвиняемый так и сказал и, как показалось ему, привел следователя в смущение. На следующую встречу со следователем он шел приободрившись, но тот, отодвинув в сторону проблему построения социализма, с ходу задал вопрос, на какую разведку он работал – немецкую или английскую…
Однажды в разговоре с Разгоном я упомянул имя Эльсберга. «Кого, кого вы назвали?» – спросил Лев Эммануилович. «Якова Ефимовича Эльсберга, я слушал в университете его спецкурс о литературе 40-х годов XIX века». – «Прошу вас, – сказал Разгон, – никогда не произносите при мне имя человека, бывшего стукачом и посадившего многих».
Эти слова поразили меня: Эльсберг представлялся нам, студентам, образцом интеллигентности, преданности науке, отрешенности от мирских забот и проблем. В тот же день я встретился с моим сокурсником Сергеем Бочаровым, который был аспирантом Эльсберга, и чуть ли не всю дорогу от Дома детской книги на улице Горького до площади трех вокзалов (я жил тогда за городом, в Бабушкине) мы обсуждали эту новость, переворачивали ее в голове и так и сяк и пришли к выводу, что этого не может быть, что здесь какое-то недоразумение.
Увы, все оказалось правдой…
Возвращаясь к Разгону, нужно сказать еще, что он энергично включился в литературную работу: писал статьи о научно-популярной литературе, участвовал в издании альманаха «Пути в незнаемое». Все это было живо, умно, интересно, но не более. Главную свою книгу он писал в тайне от многих. Помнится то впечатление, которое произвел опубликованный в «Огоньке» очерк Разгона «Жена президента» – о репрессированной жене М. Калинина, помочь которой этот «всесоюзный староста» и носитель «высшей власти» был не в силах. Потом появились и другие очерки, составившие книгу Разгона, поистине книгу жизни. Лучше назвать ее, чем назвал сам автор, невозможно: «НЕПРИДУМАННОЕ». Ни тени беллетризации, никакого притязания на эффекты, на красноречие – все сурово, просто, буднично, обыкновенно.
Что касается моей работы в ДДК, то она была мне крайне обременительна режимом восьмичасового рабочего дня, то есть отсутствием свободного времени. Я уже подумывал о возвращении в школу рабочей молодежи, где такого времени было с избытком, но тут мне предложили место редактора в журнале «Советская литература на иностранных языках» (я напечатал в этом журнале две-три статейки).
«Почему вы вздумали уходить?» – спросил меня Разгон (как замдиректора по научной работе он был моим начальником). Я упомянул и более свободный график (начало работы не в 9, а в 12), и наличие творческого дня. «Я вам дам два творческих дня». – «Но как же я смогу пользоваться ими, если другие будут сидеть от звонка до звонка?» – «Да, это неудобно», – согласился Лев Эммануилович.
«…ЗАРУБЕЖНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ ЭТОГО НЕ ПОЙМЕТ»
В журнале «Советская литература», в котором мне довелось проработать несколько лет, было немало замечательных людей. Все они потом разбрелись по разным редакциям и издательствам: Сергей Ларин – в «Новый мир», Стелла Тонконогова – в Гослитиздат, Евгения Кацева – в «Вопросы литературы», а потом в «Знамя». Имел место и обратный процесс; так, после разгрома «Нового мира» в «Советскую литературу» пришел – вернее сказать, был трудоустроен – заместитель Твардовского Алексей Иванович Кондратович (впрочем, в это время я уже в журнале не работал).
Назову еще «поляков» – так именовали сотрудников польской редакции: Тусю Гессен, Аню Крейдлину, уже упоминавшуюся мною Стеллу Тонконогову, Эву Василевскую… В социалистическом лагере, как известно, Польша выделялась некоторой веротерпимостью и широтой идеологии; соответственно, и наши «поляки» отличались большей информированностью в отношении, как сказали бы в старину, текущего момента.
Под стать «полякам» была и Наталья Оскаровна Камионская. В ее обязанности входило нахождение цитат и соответствующих иноязычных источников, но благодаря большой эрудиции и опыту (Наталья Оскаровна работала еще в довоенной «Интернациональной литературе») она часто играла роль и полезного советчика.
Все это позволяло поддерживать относительно приличный уровень издания, хотя передовым органом литературной мысли журнал не был – не мог быть, как сейчас бы сказали, по определению. Зато в силу того же самого «определения» журналу часто удавалось уклоняться от проработочного тона и идеологической риторики.
Когда самотеком или каким-то другим образом подобного рода материал поступал в наш отдел (отдел критики), то заведующая отделом Розалия Наумовна шла к главному редактору и ставила вопрос ребром: «Нужно ли нам выносить сор из избы и демонстрировать зарубежному читателю нашу слабость и отсутствие единства?» – «Не нужно!» – был решительный ответ, и материал отправлялся назад к автору или в корзину.
Когда же, бывало, очередная идеологическая кампания достигала пика и нужно было непременно отметиться, мы с Розалией Наумовной прибегали к автору, одно имя которого уже излучало полную благонадежность. Очень подходил для этой цели Владимир Родионович Щербина – и потому что был известным теоретиком литературы как партийного дела, и потому что всегда готов был выручить. По первому же зову он присылал машинопись этак страниц на 80 – 100, из которых мы с Розалией Наумовной отбирали страниц 10 – 12, по возможности безобидных, то есть состоящих из общих фраз и не упоминавших произведения и имена проштрафившихся писателей. Владимир Родионович никогда не возражал, сердечно благодарил за «бережную редактуру» и только просил вернуть «остатки», которые, очевидно, посылались в другой орган печати.
Тут я должен сказать несколько слов о заведующей отделом, в котором я был редактором. Розалия Наумовна Штильман, родная сестра Якова Наумовича Ильина, автора в свое время известного романа «Большой конвейер», кажется, сама ничего никогда не писала, но редактор она была замечательный. Муж ее, Петр Моисеевич, инженер-экономист, профессионально вообще не имел отношения к литературе, но это была в полном смысле слова литературная семья, с широким кругом знакомств и с живым интересом ко всем сколько-нибудь заметным художественным явлениям. Трое людей, знакомых Штильманам лично, упоминались Розалией Наумовной чаще других – Володя, Леня и Миша.
Володя – это Владимир Гриб, рано скончавшийся талантливый преподаватель ИФЛИ. Студенты обожали его и в последние его дни и часы (рассказывала Розалия Наумовна) не уходили из больничной палаты, передавая дежурство от одного к другому.
Леня – это Леонид Ефимович Пинский, а Миша – Михаил Александрович Лифшиц. Они были дружны и между собою, но ко времени, о котором идет речь, их отношения разладились: Михаил Лифшиц, сподвижник Георгия Лукача, стремился сохранить верность марксизму, освободив его, как он свято верил, от искажений и вульгаризации; отношение же Пинского к марксизму было более критичным. Розалия Наумовна тяжело переживала этот разлад и старалась примирить друзей.
У Розалии Наумовны и Петра Моисеевича не было детей, жили они в полном смысле слова одной жизнью, и представить их по отдельности было невозможно. Когда умер Петр Моисеевич и кто-то в какой-то связи упомянул имя Виктора Некрасова (Штильманы были с ним знакомы), то Розалия Наумовна сказала: «Мы… мы… получили, получили…» – и тут она разрыдалась. Но все догадались, что она хотела сказать и не смогла выговорить: мол, они с Петром Моисеевичем получили от Некрасова телеграмму соболезнования на смерть Петра Моисеевича…
О людях из национальных редакций (исключая «поляков») я знал немного; жили они скрытно, о своем прошлом широко не распространялись. Помню, как на похороны заведующего испанской редакцией известного писателя Сесара Муньоса Арконады в Центральный дом литераторов пришла Долорес Ибаррури, – все невольно расступились перед величественной старухой, когда она приближалась к гробу. Я не знал тогда, что Арконада – активный участник антифашистского движения и гражданской войны в Испании.
Помню, как-то разговорился заведующий другой редакцией, немецкой, – Гофмайер – о том, как он вел подпольную работу в Германии и скрывался от гестапо. Воспоминания же Гофмайера, в свою очередь, вдохновили заместителя главного редактора Татьяну Николаевну Моисеенко-Великую – и тут мы узнали то, что никак не вязалось с обликом этой несколько педантичной и затрапезной пожилой женщины.
Вместе со своим мужем-бельгийцем она была сотрудником Интернационала и, соответственно, советским агентом в странах Западной Европы; потом их перебросили в Китай, где разоблачили и приговорили к смертной казни. Наши, разумеется, все отрицали, в газетах публиковались материалы под шапкой «Свободу супругам Руего!» (это их вымышленная фамилия), образовался международный комитет по освобождению осужденных, куда вошли известные люди, если мне не изменяет память, такие даже, как Горький и Анри Барбюс (Татьяна Николаевна все это говорила, демонстрируя старые газеты, – сейчас я очень жалею, что не записал их выходные данные); была каким-то образом задействована вдова Сунь Ятсена и другие известные лица… Потом казнь отложили по случаю какого-то праздника, потом в городе и провинции начались беспорядки, и было не до супругов Руего, потом произошло что-то еще, и в результате оба приговоренных оказались в Советском Союзе, где в это время набирала силу своя репрессивная кампания. Что пришлось пережить им по возвращении на родину, Татьяна Николаевна рассказывать не стала, только многозначительно зажмурила глаза.
Но вот что поразительно: женщина, которая не раз смотрела в глаза смерти, – будучи замглавного редактора, безумно боялась начальства и замирала от каждого звонка «сверху».
К концу года нам прислали еще одного зама главного редактора – Михаила Матвеевича Корнева. Он был директором издательства «Советский писатель», но, видимо, перестал соответствовать изменившемуся времени и в порядке понижения был переведен в «Советскую литературу на иностранных языках», хотя не только не знал ни одного иностранного языка, но и русским владел не в совершенстве…
Наши девочки-техреды сочинили по этому поводу частушку: «Есть у нас угрюмый зам, / Корнев называется, / Ну а корни подрывать / Нам не разрешается». Частушку эту они исполнили на каком-то новогоднем капустнике, к большому удовольствию Моисеенко-Великой – свободно владевшая несколькими европейскими языками, она считала Корнева парвеню (самого Корнева на вечере не было).
Не знаю, как в «Советском писателе», но на новом месте Михаил Матвеевич не проявил себя злым человеком, скорее, его отличало даже некоторое добродушие, хотя за идеологической выдержанностью он следил пристально. Ну что тут поделаешь! Против своей природы и служебных навыков не попрешь. С приходом Корнева нам, то есть отделу критики, стало жить несколько труднее.
Корнев владел неотразимым приемом, чтобы отклонить любой сколько-нибудь интересный, отступающий от шаблона материал. Он обычно вызывал редактора, который вел этот материал, сажал перед собою и торжественным тоном объявлял:
– Я понял. Но зарубежный читатель не поймет!
Что можно было возразить, если никто из нас к тому времени не видел этого зарубежного читателя даже на расстоянии пушечного выстрела…
Получилось так, что мне с Михаилом Матвеевичем доводилось сталкиваться чаще, чем другим, – и вот почему. В то время суббота была еще рабочим днем, но сокращенным, предпраздничным: вместо восьми часов – четыре или пять. Поэтому мне было выгодно выбрать себе в качестве творческого дня именно субботу – больше времени оставалось для самостоятельных занятий. Корневу же приходилось отбывать субботу потому, что остальное начальство стремилось создать себе полноценный weekend, а его, Михаила Матвеевича, держало в черном теле – так что в субботу мы с ним бывали одни чуть ли не во всей редакции.
Корневу часто становилось скучно в своем кабинете, и, приоткрыв дверь, он делал указательным пальцем что-то вроде закорючки, что означало приглашение войти (имен и фамилий своих подчиненных Корнев запомнить не мог). А потом рассказывал что-нибудь из своего литературно-начальственного прошлого.
Однажды он спросил:
– Ты, наверное, думаешь, что собрание сочинений Льва Толстого, то, которое юбилейное и в котором 90 томов, – полное? А вот и нет! Говорю тебе это авторитетно и ответственно, как человек, занимавшийся этим делом.
Так я узнал, что Михаил Матвеевич Корнев еще и толстовед.
И затем он поведал историю, которая якобы нашла отражение в дневнике Толстого. Смысл мною услышанного сводится примерно к следующему.
…Сидел как-то Лев Николаевич в своем саду в Ясной Поляне и размышлял о прекрасном и вечном. А невдалеке молодая девка-прислуга срезала для букета ветки сирени, взгромоздившись на стремянку и обнажив округлые бедра. И очень мешал этот вид Льву Николаевичу думать о прекрасном и вечном. Долго крепился великий классик, а потом не выдержал, сграбастал девку и уволок ее то ли в те же кусты сирени, где было погуще, то ли в барский дом. А потом стал горько-горько раскаиваться: ах, я скверный, я гадкий, я не ем мяса, кушаю одни рисовые котлетки, а позволяю себе такие поступки, – словом, далее точно по Ленину.
– Ты думаешь, как член редакционного совета я это позволил напечатать?
Вопрос был риторический, но я ответил: не знаю.
– А вот и нет! Я это место – раз!
При этом Корнев энергично провел рукою сверху вниз, как будто делал полостную операцию.
Тут уж мне довелось что-то пробормотать близкое классику, то есть в данном случае Пушкину: мол, каждая подробность жизни великого человека драгоценна для потомства, зачем же надо было вычеркивать и т. д.
– Действительно, зачем? – повторил Корнев и, как мне показалось, тяжело задумался. А потом вдруг просиял, доверительно тронул меня за плечо и уверенно произнес:
– Так ведь неудобно: человеку за семьдесят – старик!
К ВОПРОСУ О ЗАГРАНПОЕЗДКАХ
Я ничуть не преувеличил, сказав, что своего зарубежного читателя я тогда не видел даже на расстоянии пушечного выстрела. Как и многие из моего поколения, я долгое время не испытывал никакой тяги к перемене мест – в смысле загранпоездок – по причине полной несбыточности такой тяги.
Первый раз я решился поехать за рубеж в 1961 году, записавшись в туристическую группу Союза писателей, направлявшуюся в Польшу. Мою кандидатуру без всяких сложностей утвердили, но в последний момент я отказался, так как поездка совпала с экзаменами для поступления в аспирантуру ИМЛИ.
Помню, меня вызвали в правление московского отделения Союза писателей и строго сказали, что, во-первых, из-за меня срывается поездка всей группы, так как возник некомплект (словечко-то какое!), а нового человека они оформить уже не успеют; и во-вторых, меня уже никогда и никуда не выпустят.
Слава Богу, обе угрозы не осуществились: и группа благополучно выехала, и меня стали потихоньку выпускать. Но все равно – всякая поездка при этом переживалась как счастливый случай.
Осенью 1972 года, когда я в составе туристической группы того же Союза писателей направлялся в автобусе в Шереметьево, сидевший рядом со мной Георгий Николаевич Мунблит (известный писатель, автор сценариев фильмов, написанных совместно с Евгением Петровым, – «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится») торжественно сказал: сегодня – исторический день! Я подумал, что должно произойти что-то очень важное в советско-итальянских отношениях на высшем уровне, но оказалось, что подразумевалось событие гораздо более скромное и мелкое: просто мы едем в Италию. Для этого каждый из нас, не зная того, подвергся определенной проверке: я, например, съездил в ГДР (социалистическая страна!) и в Финляндию (страна хотя и капиталистическая, но остаться там невозможно).
В аэропорту Георгий Николаевич указал мне на двух молодых людей, стоявших в очереди к регистрационной стойке, но отдельно от группы: «Это наша охрана». Я тогда оставил без внимания эту реплику, но по возвращении в Москву в Шереметьево вдруг увидел тех же самых людей, волокущих тяжелые сумки. Тут мне Георгий Николаевич все объяснил…
Подумать только: вместе с группой туристов направляют двух дюжих молодцов, снабжают их средствами, чтобы они ехали за нами, но отдельно, ни в чем себе не отказывали, – и все затем, чтобы следить за десятком вполне лояльных литераторов, из которых никто не собирался оставаться и никто не владел хоть сколько-нибудь секретной информацией…
Я не собираюсь передавать здесь свои впечатления от заграничных путешествий, потому что это не цель моих заметок и потому что тысячи очеркистов сделали и еще сделают это много лучше меня. Упомяну лишь один-два эпизода на тему, которую в свое время обозначали так: «Их нравы». Или: «Советский человек в царстве чистогана».
Во время упомянутой выше поездки в Финляндию руководительница нашей группы спросила, хотим ли мы увидеть стриптиз. Все, конечно, согласились:
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Статья в PDF
Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №5, 2007