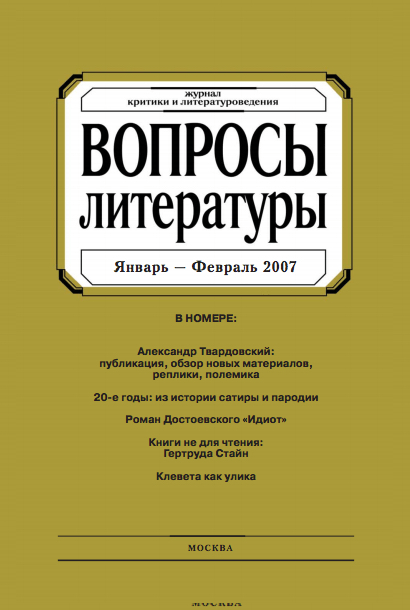Другая вера как социальное безумие частного человека. «Крик осла» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
В сокращенном виде опубликовано в сборнике материалов международной конференции «Психические отклонения как источник литературного творчества» (Центр славянских исследований, Сорбонна, Париж, 2004): Семиотика безумия / Сост. Нора Букс. Париж; М.: Европа, 2005.
Недолгое пребывание князя Мышкина в России обернулось болезнью для него самого и несчастьями для тех, кто его полюбил и захотел разделить его веру. Подоплеку странно-трогательного поведения князя, которое, по мере развития сюжета, все больше принимало форму социального безумия, находят то в его душевном расстройстве, то в причудах характера, то в особенной религиозности, хотя оценки религиозности сегодня также разнятся: от «Князя Христа» до князя-Антихриста.
Конечно, князь был болен. Конечно, болезнь наложила отпечаток на его характер и манеру поведения1. И дело даже не в том, что он вернулся из Швейцарии, чувствуя себя куда более здоровым, чем до отъезда, – слишком хорошо известно, как обманчивы могут быть подобные ощущения, – куда важнее, что он имел некую идею, в чем и признался в первой же беседе у Епанчиных. Правда, поскольку в качестве проповедника он в тот момент никого не интересовал, существо идеи осталось не проясненным.
И все-таки, отнюдь не теша себя иллюзией найти единственную, тем более единственно верную разгадку поведения князя, стоит повнимательнее присмотреться к первому дню его пребывания в России. Не то чтобы первый день объясняет все, но ключ к пониманию глубинных мотивов поведения главного героя Достоевский здесь, безусловно, дает.
Начнем не с самого первого, а с самого непонятного эпизода. Среди прочих неясных речей князя Мышкина, сказанных им при посещении дома Епанчиных, особенно примечательна та, в которой князь возносит хвалу ослам вообще и особенно крику осла, пробудившему его к новой жизни.
Во время застольной беседы князя просят рассказать о первом впечатлении в Швейцарии. » Впечатление было сильное…» – предупреждает князь, а затем повторяет: «Первое впечатление было очень сильное». И после рассказывает, как его, больного, везли через разные немецкие города, и он, еще не оправившись от ряда сильных припадков, терял память и чувствовал нестерпимую грусть от того, что все вокруг чужое. Окончательно вернул его к жизни и примирил со Швейцарией крик осла на городском рынке. С тех пор, по признанию князя, он ужасно полюбил ослов.
Весь этот странный рассказ можно было бы, по совету генеральши Епанчиной, и пропустить, посчитав его неудачной шуткой неловкого гостя, если бы князь всерьез не связывал с криком осла свое исцеление и духовное возрождение. А поскольку князь был возвращен в Россию своим швейцарским доктором и учителем2 как человек идеи («я действительно, – говорит князь девицам Епанчиным, – пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать…»), то оставить без внимания обстоятельство, способствовавшее его духовному прозрению, каким бы нелепым оно ни казалось на первый взгляд, совершенно невозможно.
Образ осла относится к тем образам, которые принято считать древнейшими и традиционными. Алгоритмы его толкования предельно разнообразны. Одна из наиболее ярких работ на русском языке о мифологическом комплексе осла и его трансформации в средневековой традиции принадлежит О. Фрейденберг. Фрейденберг, в частности, указывает на осла как на распинаемое божество, умирающее и воскресающее, и особо выделяет усвоенную христианством общую для культа осла в Индии, Малой Азии, Египте, у древних семитов семантику «спасения»3.
Однако собственно крик осла – а князя Мышкина воскрешает именно крик осла, и расширительные толкования, игнорирующие эту решающую деталь, могут привести к ошибочным ходам и ложным обобщениям – так вот, собственно крик осла в религиозной жизни западного христианского мира совершенно определенно связан с ослиной мессой, бывшей частью праздника осла – полуофициального, но все-таки легально существовавшего на протяжении примерно семи веков ритуала.
В истории гротескной комики, составленной в конце XVIII века К. – Фр. Флёгелем и обработанной в 1862 году Ф. – В. Эбелингом4, праздник осла (festum asinorum) занимает второе место по древности и популярности после праздника дураков. Книге Флёгеля стоит уделить особое внимание по причине популярности и доступности. Экземпляр ее хранится и в библиотеке Н. Страхова, которой неоднократно пользовался Достоевский5 .
Известный по крайней мере с IX века (по другим данным, уже с V века6), праздник осла (Флёгель описывает его бытование во Франции) представлял собой смеховое действо на евангельский сюжет о бегстве в Египет (Мф. 2, 13 – 15). В городе выбирали самую красивую девушку, давали ей на руки младенца и сажали на осла. Процессия, символизировавшая Марию и Младенца Христа, в сопровождении клира и паствы направлялась к главному храму города. Там священник с большой помпой служил мессу. В это время осел со своими седоками находился в храме возле алтаря.
Сохранившийся официум «ослиной мессы» составлен Пьером Корбейлем7. Каждая часть мессы завершалась ослиным криком, в конце священник сам трижды кричал ослом и паства повторяла за ним: «Hinham! Hinham! Hinham!» («И-а! И-а! И-а!»). После этого прихожане исполняли комическую песенку в честь осла. Флёгель приводит ее текст и нотную запись. Песенка состояла из девяти куплетов, которые священник пропевал на латыни, и припева, который паства выкрикивала по-французски. Восемь из девяти стихов осла прославляли, превозносили его силу, выносливость, терпение и прочие добродетели. В шуточном рефрене прихожане обещали ослу, если он споет, вдоволь овса и сена. В заключительном стихе уже и пастырь обращался к ослу с той же просьбой: «Хочешь лечь спать сытым – Аминь (все опускались на колени) – окропи себя святой водой и прокричи трижды «Аминь!»». За криком осла следовал припев, текст которого отличался от повторявшегося прежде. Прихожане обращались к «сиру ослу» со словами: «Сир, да вы осел, шли бы вы лучше куда подальше!». После этого священник и прихожане со смехом изгоняли осла из храма.
В силу неофициальности праздника, его ритуал долгое время не был зафиксирован в письменных источниках. Память о первоначальном религиозном смысле древней мистерии постепенно стиралась. Так что когда в XIX веке писатели и философы обратились к празднику осла, ослиной мессе и ее кульминации – крику осла в христианском храме – ритуальное значение всего действа нуждалось в реконструкции и толковании. Скажем сразу, возрождение интереса к средневековой мистерии в искусстве и философии XIX-XX веков8 произошло под влиянием все-таки не Достоевского, а Ницше. Две главы из «Так говорил Заратустра» – «Пробуждение» и «Праздник осла» – повествуют о старинной мистерии и возрождающей силе крика осла, а в «По ту сторону добра и зла» Ницше цитирует фрагмент «ослиной мессы»: «В каждой философии есть пункт, где на сцену выступает «убеждение» философа, или, говоря языком одной старинной мистерии:
adventavit asinus
pulcher et fortissimus»9.
В последнем фрагменте перекличка Ницше с Достоевским особенно ощутима – цитата из ослиной мессы приведена здесь в качестве иллюстрации «убеждения» философа, «выпирающего» личностного присутствия, неизбежного в самом отвлеченном мыслительном построении.
Так каково же было убеждение князя Мышкина, которое, подобно тому самому мистериальному ослу, выступило так властно и отчетливо, с необыкновенной и запоминающейся образной резкостью, уже при первом посещении дома Епанчиных?
Особенности поведения, детали костюма, наконец, содержание застольных бесед, – все выдает в князе последователя Франциска Ассизского, «самого веселого» католического святого. «Ослиная тема» также имеет францисканские коннотации. Сам Франциск называл свое тело «брат осел», а рассказ о крике осла, пробудившем князя к жизни, как обряд инициации, обнаруживает соответствие с обрядом посвящения во францисканский орден. Когда поэт Якопоне да Тоди пожелал облечься в одеяние францисканца, приор сказал ему: «Если ты хочешь жить среди нас, ты должен стать ослом и вести себя как осел среди ослов». Якопоне надел на себя шкуру осла, приговаривая: «Смотрите, братья, я стал ослом, примите меня, осла, к вам, ослам!»10
О близости к францисканскому ордену свидетельствуют и другие приметы, которыми, пожалуй, даже перенасыщено описание первого дня князя в России: благородная бедность, плащ с большим капюшоном и узелок, готовность проповедовать, но при этом не писать, а только переписывать. Однако главное все-таки многочисленные сцены в приемных и передних: нарочитая униженность в прошении, смиренное ожидание, чтобы приняли, и даже как будто радость от того, что не принимают, страстное долготерпение, производящее на окружающих впечатление почти клинического идиотизма: «Примут – хорошо, не примут – тоже, может быть, очень хорошо».
Визит к Епанчиным начинается с затянувшихся переговоров с лакеем в передней: «…или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить…». Князь не только говорит с лакеем про свои дела, он к тому же, несмотря на настойчивые приглашения лакея, никак не хочет пройти в приемную, зарождая в душе лакея страстное противоречие: с одной стороны, князь лакею «почему-то нравился, в своем роде конечно», но, с другой точки зрения, «он возбуждал в нем решительное и грубое негодование».
То же повторяется и в кабинете генерала Епанчина. Князь как будто рад, что его гонят, как будто только и дожидается, чтобы его не пригласили в дом и отказали в родстве: «То, стало быть, вставать и уходить? – приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств <…> Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя; вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение».
Впечатление от странного поведения князя, которое поначалу кажется результатом болезненной застенчивости измученного нищетой человека, в сцене у Епанчина радикально меняется. Сцена выстроена таким образом, чтобы у читателя уже не осталось сомнения: мотивация поведения князя сложнее, чем представляется лакею. Мгновенная перемена в отношении к бедному родственнику, произошедшая с генералом Епанчиным, показательна не только потому, что впоследствии князь, не прилагая никаких видимых усилий, заставит и других людей вот так же во мгновение ока перемениться к себе, но и в силу серьезности описанного потрясения.
Семантику ласкового долготерпения князя, стучащегося в дома и в сердца, как в дома, объясняет беседа Франциска Ассизского с братом Львом о «совершенной радости», составляющая восьмой и наиболее известный из Цветочков.
В чем состоит истинная и совершенная радость? Радость не в святости, не в познании, не в обращении неверных, не в даре исцелять больных, пророчествовать и совершать чудеса. Но какова же совершенная радость? «Когда мы придем <…> вот так, промоченные дождем и прохваченные стужей, запачканные грязью и измученные голодом, и постучимся в ворота обители, а придет рассерженный привратник и скажет: «Кто вы такие?» А мы скажем: «Мы двое из ваших братьев»; а тот скажет: «Вы говорите неправду, вы двое бродяг, вы шляетесь по свету и морочите людей, отнимая милостыню у бедных, убирайтесь вы прочь»; и не отворит нам, а заставит нас стоять за воротами под снегом и на дожде, терпя холод и голод, до самой ночи; тогда-то, если мы терпеливо, не возмущаясь и не ропща на него, перенесем эти оскорбления, всю эту ярость и угрозы и помыслим смиренно и с любовию, что этот привратник на самом-то деле знает нас, а что Бог понуждает его говорить против нас, запиши, брат Лев, что тут и есть совершенная радость. И если мы будем продолжать стучаться, и он, разгневанный, выйдет и прогонит нас с ругательствами и пощечинами, словно надоедливых бродяг, говоря: «Убирайтесь прочь, гнусные воришки, ступайте в ночлежный дом, потому что здесь для вас нет ни трапезы, ни гостиницы»; если мы это перенесем терпеливо и с весельем и добрым чувством любви, запиши, брат Лев, что в этом-то и будет совершенная радость. И если все же мы <…> будем стучаться и, обливаясь слезами, будем умолять именем Бога отворить нам и впустить нас, а привратник, еще более возмущенный скажет: «Этакие надоедливые бродяги, я им воздам по заслугам»; и выйдет за ворота с узловатой палкой, и схватит нас за капюшон, и швырнет нас на землю в снег, и обобьет о нас эту палку; если мы все это перенесем с терпением и радостью, помышляя о муках благословенного Христа, каковые и мы должны переносить ради Него; о, брат Лев, запиши, что в этом будет совершенная радость. А теперь, брат Лев, выслушай заключение. Превыше всех милостей и даров Духа Святого, которые Христос уделил друзьям своим, одно – побеждать себя самого и добровольно, из любви ко Христу, переносить муки, обиды, поношения и лишения; ведь из всех других даров Божиих мы ни одним не можем похваляться, ибо они не наши, но Божий <…> Но крестом мук своих и скорбей мы можем похваляться, потому что они наши…»11
Собственно, намерение «побеждать себя самого и добровольно, из любви ко Христу, переносить муки, обиды, поношения и лишения» «терпеливо и с весельем и добрым чувством любви» (или в другом переводе: «если сохраню терпение и не разгневаюсь»12) является доминантой поведения князя, производящей на окружающих столь магическое впечатление.
Теперь, прежде чем продолжить, – несколько слов об истории вопроса. Францисканские мотивы в творчестве Достоевского исследовались, хотя и эпизодически. Открытие темы по праву принадлежит В. Ветловской, прокомментировавшей формулу «Pater Seraphicus», вынесенную в название главы, посвященной старцу Зосиме в «Братьях Карамазовых», как атрибут Франциска Ассизского13. Стоит особо отметить также недавнюю статью М. Плюхановой, рассматривающую францисканское влияние на формирование мотива страданий ребенка в «Братьях Карамазовых» и отчасти в «Идиоте»14. Таким образом, по крайней мере в отношении последнего романа Достоевского влияние францисканства признается несомненным, однако главного вопроса – судьбы францисканских идей на русской почве – исследователи как будто боятся даже касаться, хотя сюжетный рисунок героев-идеологов – князя Мышкина в «Идиоте» и старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» – дает для этого богатый материал.
Очевидно, что в спорах о католицизме, пронизывающих романы Достоевского, францисканская линия стоит особняком. Изучение источников, которыми мог пользоваться писатель, составляет самостоятельную проблему, которую мы в этой короткой статье решать не возьмемся. По правдоподобному предположению Ветловской, Достоевский скорее всего обращался к французским публикациям, хотя данных о том, к каким и когда, у нас нет15.
Возрождение живого интереса к Франциску Ассизскому поверх конфессиональных границ началось на рубеже XVIII-XIX веков преимущественно в Германии и Франции, сначала в среде университетских интеллектуалов, а затем, в конце 1830-х годов, в кругу романтиков поколения К. Брентано. В середине века, после переложения «Песни творения» («II Cantico delle creature»), подготовленного Ф. Шлоссером и Э. Штейнле, а также трудов А. – Ф. Озанама16, акцентировавшего, в частности, значение Франциска для духовной подготовки итальянского Возрождения, интерес к францисканским идеям и образам вышел за пределы университетских стен и узких литературных кругов, достигнув своего пика через несколько десятилетий после Достоевского, на рубеже XIX-XX веков, когда появились книги П. Сабатье и Г. Тоде17, а также изданный Полем Сабатье латинский извод «Цветочков» («Fioretti») (1902).
Впрочем, этот общий взгляд на распространение сведений о Франциске и францисканстве в XIX веке неизбежно упрощает историю вопроса, ретроспективно иерархизует факты, в результате чего некоторые важные для своего времени источники18 оказываются в тени позднейших, возможно, более полных и фундированных.
Кроме того, нельзя недооценивать значение устных, чаще никак не зафиксированных, рассказов и бесед, а также зрительных, преимущественно живописных, впечатлений. Например, вспоминая о петербургской жизни начала 1830-х годов, В. Печерин, эпизоды биографии и творчества которого впоследствии были прототипически использованы Достоевским, рассказывал о доме барона и баронессы Розенкампф, решающе повлиявших на становление его личности, и, описывая висевшие в их гостиной картины, особо отмечал портрет Франциска Ассизского, писанный рукою баронессы19.
Подобные источники и впечатления, небезразличные творческой фантазии писателя, хотя и не поддаются сколько-нибудь последовательному учету, все-таки не могут быть проигнорированы вовсе, уже в силу того значения, которое придает повседневной беседе францисканская традиция. Об этом замечательно напомнил Б. Пастернак в первой редакции «Доктора Живаго»: «Наше время заново поняло ту сторону Евангелия… которую издавна лучше всего почувствовали и выразили художники. Она была сильна у апостолов и потом исчезла у отцов, в церкви, морали и политике. О ней горячо и живо напомнил Франциск Ассизский, и ее некоторыми чертами отчасти повторило рыцарство. И вот ее веянье очень сильно в девятнадцатом веке. Это тот дух Евангелия, во имя которого Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. Это мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна»20.
Пояснять истину светом повседневности – Пастернак сформулировал здесь одно из важнейших оснований, благодаря которому францисканская традиция оказалась созвучной европейскому XIX веку. Следует, впрочем, заметить: мы не обсуждаем, насколько адекватно литература, искусство и философия XIX века восприняли личность Франциска Ассизского, его житие и проповеди, и сколь велика и серьезна была при этом неизбежная деформация и модернизация средневековой традиции; мы, насколько позволяет короткая статья, говорим о том, как европейское искусство и гуманитарные науки заново открыли для себя Франциска и какие из францисканских идей и образов оказались востребованными.
Так что же особенного было во францисканстве с точки зрения XIX века? По всей видимости, именно то, в первую очередь, что позволяет говорить о влиянии Франциска Ассизского на становление европейского Ренессанса: поклонение Христу в его предельной человечности – в его детской слабости и в его смертных страданиях. Как позже напишет М. Бахтин: «Добрая человечность, смеющаяся над собой и потому неспособная на жестокость ради человечности (ощетинивший<ся> кровавый гуманизм). Человечность, не считающая себя последним словом»21.
Для писателя XIX века было важно то, что наряду с возвращением к идеалам апостольской жизни, с культом евангельской бедности, с благочестием, идущим от сердца и потому опирающимся на силу поэзии и музыки, наряду с отказом от теологической учености, церковной власти и господства, от догмы и буквы, Франциск проповедовал своим ученикам живое сочувствие к распятому и страдающему Христу, как если бы это страдание не было отделено ни временем, ни пространством.
Проповедуемое Франциском убеждение, что истина не авторитарна, а в истории возможна ненасильственная смена, в свое время нашло отклик в церковной, политической и эстетической сферах: в возвращении от практики Крестовых походов к апостольской традиции христианского мессианизма, в идеале ненасильственной государственной и политической смены, наконец, в идее реформации внутреннего человека, покоящейся на представлении о том, что в основе религиозного чувства лежит внутреннее личностное переживание, которое может быть проявлено и усилено поэзией, музыкой, живописью.
Еще один частный момент, проанализированный в упоминавшейся статье М. Плюхановой: под воздействием францисканских идей и образов в литературе XIX века, у Достоевского-романиста в особенности, происходит слияние темы детства и образа страданий. Во францисканских видениях почитание ребенка Иисуса и страстей Христовых нередко воплощалось в едином евхаристическом образе страдающего ребенка. Учитывая существующий в Европе с XIII века культ Тела Христова и представление, согласно которому в основе мировой гармонии находится тело ребенка, Христа, образы страдающих детей у Достоевского приобретают не просто общегуманистический, а отчетливо выраженный религиозный смыс22.
Примечательно, что вторым обстоятельством, после крика осла на городском рынке, излечившим князя Мышкина и пробудившим его к новой жизни, становятся беседы с детьми и общество одних только детей. Князь, по его признанию, «все время был <…> с детьми, с одними детьми» и «им все говорил», ничего не утаивая под предлогом, что они маленькие. Заметим кстати, что в церковной живописи образ осла сопровождает весь «детский» цикл Иисуса. И еще раз убедимся: то, что на первый взгляд может показаться сентиментально-умилительным или, напротив, вызвать недоумение, в действительности имеет сложную мыслительную мотивировку, затрагивающую религиозные убеждения главного героя романа.
Изучение францисканской темы в творчестве Достоевского искушает к далеко идущим выводам о мировоззрении писателя: о «горизонтах Достоевского», которые, как кажется, «не были однозначно русскими или однозначно европейскими»23, о русском «всечеловеке» и «всеевропейце». Не касаясь столь тонкой материи, вернемся к тому, что поддается объективному исследованию, а именно, – к сюжетному рисунку судьбы князя Мышкина – «героя-идеолога», впитавшего францисканские идеи «доброй человечности», «духовной веселости», ими излечившегося в Швейцарии, вернувшегося их проповедовать в Россию и ввергнутого в необратимый приступ той же самой болезни в результате краха своей миссии.
То, что князь вполне сознавал свою миссию, подтверждено еще одним знаковым эпизодом – рассуждением о «Магометовом мгновении». Размышляя о своей болезни, князь говорит о минутах, предшествующих припадкам падучей, и сравнивает их с «Магометовым мгновением», то есть с мгновением, за которое Магомет, разбуженный архангелом Гавриилом, совершил путешествие из Мекки в Иерусалим, побывал в раю, беседовал с Богом, ангелами и пророками, спускался в ад, а возвратясь, нашел свою постель неостывшей и успел остановить падение сосуда с водой, который, улетая, задел крылом архангел Гавриил24. «Магометово мгновение», как момент «необыкновенного усиления самосознания», является сквозным мотивом, проходящим через два романа Достоевского, «Идиот» и «Бесы», и имеет к тому же автобиографический смысл25. О мгновениях, предшествующих приступам падучей, в обоих романах сказано как об особом, ни с чем не сравнимом состоянии – как о моменте выхода из жизни и прозрения целого бытия, переживаемом, это особенно подчеркивает Достоевский, физически, а не галлюцинаторно, во сне или в мечте: следовательно, это не другая жизнь сознания, как сон, мечта или иллюзия, а мгновение «высшего самоощущения и самосознания», физически преображающее всего человека. «Это не земное, – рассказывает Кириллов, – я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть». «…В этот момент, – свидетельствует князь Мышкин, – мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно <…> это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы». Однако тут же князь станет раздумывать, являются ли эти минуты восторженного молитвенного единения с целым бытия проблесками высшего или, напротив, инициированы самым низшим. Возможно, крик осла потому и примирил князя с его положением, что, напомнив крик эпилептика, убедил в том, что бес изгнан и, стало быть, за «Магометово мгновение» не жалко и жизнь отдать26.
«Магометово мгновение», как аллюзия для читателя и как трепетная, но несбывшаяся надежда для эпилептика-князя, вплетено в семантическую ткань эпизода его последней «проповеди» – в историю с неостановленным падением старинной китайской вазы. Мизансцена в гостиной Епанчиных выстроена вокруг этой вазы, которую так боялся разбить и которую разбил князь Мышкин. Напророченная накануне Аглаей неловкость князя – «Разбейте по крайней мере китайскую вазу в гостиной! <…> Сделайте какой-нибудь жест, как вы всегда делаете, ударьте и разбейте. Сядьте нарочно подле» – сбывается, несмотря на предосторожность: князь поначалу сел «как можно дальше от китайской вазы», но потом, под влиянием сильных светлых впечатлений, забыл о предсказании и неожиданно для себя самого оказался в кресле подле вазы. В тот момент, когда ваза от неловкого движения его руки покачнулась и рухнула на пол, когда раздался всеобщий крик и князя поразило сбывшееся пророчество, он как будто почувствовал тот самый момент, который предшествует припадку и который он сам в начале уподобил «Магометову мгновению»: «Еще мгновение, и как будто все пред ним расширилось, вместо ужаса – свет и радость, восторг; стало спирать дыхание, и.., но мгновение прошло»; припадок и дикий крик «»духа, сотрясшего и повергшего» несчастного» случились позже.
Так что же все-таки собирался проповедовать князь Мышкин, какова была его идея? Менее всего оснований предполагать, что князь желал проповедовать католицизм, прямым подтверждением чему является его финальная отповедь католицизму, следующая за известием о том, что Павлищева увлекли иезуиты27. Вряд ли также князь, будучи приверженцем Франциска Ассизского, по возвращении в Россию намеревался пополнить ряды его ордена новыми братьями. Так в чем же тогда состояла его миссия?
В Подготовительных материалах к роману, датированных 27 октября 1867 года, Достоевский записал: «NB, NB. Главная мысль романа: Столько силы, столько страсти в современном поколении, и ни во что не веруют. Беспредельный идеализм с беспредельным сенсуализмом» (9,166). По всей видимости, ведя своего героя «швейцарским» путем, Достоевский имел в виду то значение Франциска Ассизского, о котором, из перспективы XX века, так ясно сказал С. Аверинцев: «Тот, кто при жизни вышел, чтобы по-хорошему поговорить с волком, через века после окончания своих земных дней оказался послан к господам агностикам и антиклерикалам, чтобы по-хорошему поговорить и с ними; уж если его не услышат, кого же услышат?»28
Отчего же в таком случае пребывание князя в России завершилось приступом той же самой болезни, от которой его лечили в Швейцарии, и можно ли считать болезнь, в которую был ввергнут князь, крахом его миссии, компрометацией «мысли и главной идеи»?
«Вот, будучи наставником всех братьев, – говорил Франциск своему собеседнику, – приду я на капитул и буду проповедовать и наставлять всех братьев, а под конец они мне скажут: «Ты нам не подходишь, поскольку ты человек бесписьменный и бессловесный, простак и глупец». И вот с поношением я буду выброшен прочь, отвергнутый всеми. Говорю тебе, если я выслушаю эти слова не с привычным мне выражением лица, не с той же радостью духа и устремлением к святости, какие мне свойственны обычно, то не гожусь я быть меньшим братом»29. Князь Мышкин своим недолгим пребыванием в России, как сказано в Подготовительных материалах к роману, «только прикоснулся к их жизни <…> Но где только он ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту» (9,242).
Князь всем своим поведением и всеми своими беседами доказывает приверженность идеям евангельской бедности, духовной веселости, осененной духом Евангелия детскости. Однако то, что «годилось <…> в Италии», – «оказалось не совсем пригодным в России». Первые страницы романа как будто подталкивают читателя к простому выводу о причине всех бед, заключенной в инородности другой веры для русской почвы.
Появление князя Мышкина начинается с описания примечательного плаща с огромным капюшоном, пригодного для Швейцарии или северной Италии. Эпитет «швейцарский» и далее сопутствует князю: «белокурый молодой человек в швейцарском плаще», «швейцарский пациент»; а описание костюма завершается симптоматичным: «все не по-русски». Однако дальнейшее действие романа показывает, что первое предположение, хотя и не лишено оснований, все-таки недостаточно. Разумеется, князь, как сказано в третьей части Подготовительных материалов к роману, «возвращается, смущенный громадностию новых впечатлений о России» (9, 256), и вся история его жизни и его миссии как раз свидетельствует о том, «как отражается Россия» (там же, 252): «Россия, – записывает Достоевский в Подготовительных материалах, – действовала на него постепенно» (там же, 242). И все-таки проблема главного героя отнюдь не исчерпывается внешним рисунком его судьбы и особенностями характера.
Уже на ранних этапах творческой истории, в Подготовительных материалах к первоначальной неосуществленной редакции романа, герой назывался Идиот, то есть, как объясняет академический комментарий со ссылкой на основное словарное значение греческого ιδιωτης – «частный человек». Впрочем, тут же в комментарии приведено указание на «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав Русского языка, издаваемый Н. Кирилловым» (там же, 394), откуда следует, что современное Достоевскому значение слова «идиот» иное и подразумевает человека «кроткого, неподверженного припадкам бешенства, которого у нас называют дурачком или дурнем»30.
Уточнение справедливое, соответствующее представлению о характере главного героя, которое, в свою очередь, находит подтверждение в Подготовительных материалах к окончательной редакции романа, где Достоевский «главной чертой в характере Князя» обозначил «забитость, испуганность, приниженность, смирение» (9,218). Однако герой назывался Идиот и на тех этапах истории романа, когда в его характере не было ни грана кротости, когда Достоевский писал о нем: «Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить себя» (там же, 141). Бесспорно, в словоупотреблении середины XIX века главным было значение, зафиксированное «Карманным словарем» и отмеченное комментаторами, только вот его ли исключительно имел в виду Достоевский? Творческая история романа, характер Идиота первых набросков и сюжетный рисунок судьбы Идиота окончательной редакции заставляют в этом усомниться. Хотя сама семантическая переакцентуация в контексте нашей темы симптоматична. Преобладающей традицией перевода на русский язык восьмого из Цветочков Франциска, повествующего о «совершенной радости», постепенно стала та, что опирается на позднюю традицию, смещающую акцент со страдания как радости на кротость, с которой страдание переносится3131.
Кардинально меняя сюжет, состав действующих лиц и характер героя, Достоевский сохранял семантическое ядро образа, заключенное в слове, ставшем заглавием романа. По всей видимости, в первозамысле его интересовал именно частный человек и тот путь преодолений, который человек может пройти только как частный, или отдельный, вне зависимости от своего телесного здоровья, душевных свойств, места жительства и круга общения. А вот сюжетный рисунок судьбы князя Мышкина, в котором воплотилась идея идиота, действительно, свидетельствует о том, насколько рискованна с социальной точки зрения проповедь других религиозных идей. Рискованна, но не безнадежна, о чем уже вне романа свидетельствует глубокая укорененность этих идей в сознании русских интеллектуалов поколения Б. Пастернака и М. Бахтина.
- Обратим внимание только на одно замечание, которое делает автор, представляя портрет своего героя: «Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь». (Все ссылки на текст Достоевского даны по изданию: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Л.: Наука, 1972 – 1990.) [↩]
- »…Профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии», – говорит князь Мышкин генералу Епанчину при первой встрече. «И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента…», – сказано в заключительной фразе последней главы романа. [↩]
- «По Плутарху и Тациту, евреи почитали осла за то, что некогда ослы указали им путь к воде и спасли от смертельной жажды, за это ослу была воздвигнута статуя в Иерусалимском храме. Гностики прямо говорили, что владыка мира Саваоф был ослообразен <…> античная молва приписывала евреям какой-то древний, скрываемый самими евреями культ осла. Связывая этот культ с религией Тифона, греки даже верили, что Иерусалим и Иудей были рождены Тифоном после того, как осел спас его. Таким образом, самое существование Иудеи и ее священного города ставилось античным мифом в связь с древним культом осла <…> Продолжая еврейскую религию, христиане проносят к себе полностью и осла. Их тоже обвиняют в том, что они поклоняются ослиной голове…» Ряд примеров «спасающей» функции осла можно продолжить: благодаря ослам Зевс побеждает гигантов; осел спасает Диониса при переправе в Додону; Изида спасает Гора, отослав его на осле; Тифон спасается в битве благодаря ослу; ослица спасает Валаама от карающего меча ангела и т.д. (Фрейденберг О. М. Въезд в Иерусалим на осле (Из евангельской мифологии) // Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1998. С. 636, 638).
М. Бахтин указывает на осла как на «евангельский символ унижения и смирения (и одновременно возрождения)» (Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. С. 216).
Эмблематический ряд, включающий изображения осла и ослиной головы, см., напр.: Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII.Jahrhunderts/ hrsg. von Arthur Henkel und Albrecht Schone. Stuttgart; Weimar: Metzler, 1996. S. 510 – 522.
О смысле крика осла см.: Бахтин М. М. Указ. соч. С. 88. См. также приведенные в указанной работе Фрейденберг примеры «пробуждающего» и «спасающего» ослиного рева в античной традиции: «…осел <…> у Овидия спасает <…> женское божество тем, что своим криком будит богиню при нападении на нее Приапа, бога производительности» (Ovid. Fast. 6, 345, ср. 313. Ср. знамение свыше, даваемое народу через рев осла – Amm. Marc. 27, 31) – Фрейденберг О. М. Указ. соч. С. 638, 661 (прим. 64).[↩] - Fldgel K. – Fr. Geschichte des Grotesk-Komischen [1788]. Neu bearbeitet unci crweitert von Dr. F. – W. Ebeling. Leipzig, 1862.[↩]
- Шифр Научной библиотеки СПбГУ: Е II 128 62. См. указание на этот факт в докладе Н. И. Николаева «Происхождение идеи Третьего Возрождения и ее развитие в Невельской Школе: М. М. Бахтин, М. И. Каган, Л. В. Пумпянский». [↩]
- См.: Naumann G. Zarathustra-Kommentar. Bd. 4. Leipzig, 1900. S. 178 – 191. [↩]
- См.: Villetard H. Office de Pierre de Corbeil. Paris, 1907. [↩]
- Список произведений начала XX века, в которых упоминается средневековая мистерия и «возрождающий» крик осла, пока не составлен, однако те тексты, что сегодня хорошо известны, от «Соловьиного сада» А. Блока до «Портрета» Л. Добычина, используют образ осла и ослиную мессу в том смысле, который придали ей в XIX веке Достоевский и Ницше.
Из рассказа Л. Добычина «Портрет», опубликованного в 1930 году: «Сверх программы – музыкальные сатирики Фис-Дис трубили в веники. – Осел, осел, – кричали они, – где ты? – и отвечали: – Я в президиуме Второго интернационала» (см.: Добычин Л. Полн. собр. соч. и писем. СПб.: Журнал «Звезда», 1999). [↩] - Ницше Ф. Сочинения. В 2 тт. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 246. (Пер. Н. Полилова.) [↩]
- Цит. по комментарию К. Свасьяна: Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. С. 777. [↩]
- Франциск Ассизский. Цветочки // Истоки францисканства. М., <б.г.>. С. 784 – 785. Изложение той же истории см.: Писания Франциска Ассизского: Хвалы и молитвы // Там же. С. 147 – 148; Деяния Святого Франциска и спутников его (Actus Sancti Francisi et sociorum eius). Гл. 7.[↩]
- Св. Франциск Ассизский. Сочинения. М.: Изд. францисканцев – братьев меньших конвентуальных, 1995. С. 75. (Пер. Е. Широниной.) [↩]
- Ветловская В. Е. Pater Seraphicus // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 5. Л.: Наука, 1983. [↩]
- Плюханова М. Б. Достоевский и Толстой: взгляд из Италии (Gesu Bambino в «Братьях Карамазовых») // Толстой или Достоевский? Философско-эстетические искания в культурах Востока и Запада: Материалы Международной конференции 3 – 6 сентября 2001 года. СПб.: Наука, 2003.[↩]
- См.: Ветловская В. Е. Указ. соч. С. 165. Прим. 4. [↩]
- Ozanam A. F. Saint Franjois; Le bienheureux Jacopone dc Todi // (Euvres completes. Ed. 2. V. 5. Paris, 1859 [↩]
- Sabatier P. Vie de Saint Francois d’Assise. Paris, 1893; Thode H. Franz von Assisi und die Anfange der Kunst der Renaissance in Italien. Berlin, 1885. [↩]
- Назовем лишь один, на который ссылается и Ветловская: Chavin E. E. Histoire de Saint Francois d’Assise (1182 – 1226). Paris, 1816. [↩]
- Анализ этого эпизода см.: Гершензон М. О. Жизнь В. С. Печерина. М., 1910. С. 8. [↩]
- Цит. по: Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Биография. М.: Цитадель, 1997. С. 614. [↩]
- Цит. по: Попова И. Л. <Комментарий к работе М. М. Бахтина «О спиритуалах (к проблеме Достоевского)»> // Бахтин М. М. Собр. соч. в 6 тт. Т. 6. М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 2002. С. 523.[↩]
- «Имея в виду этот контекст, – заключает Плюханова, – реплику Ивана Карамазова о неприятии им мировой гармонии, за которую заплачено страданиями ребенка, можно толковать не как простое гуманистическое восклицание, а гораздо более сложно, ближе к тому, как толкуется легенда о Великом инквизиторе, как искания христианские и антихристианские, католические и антикатолнческне и как выражение атеистической муки и болезни, которая завершится согласием есть ананас перед телом распятого ребенка» (Плюханова М. Б. Указ. соч. С. 37).[↩]
- См.: там же. С. 27. [↩]
- См.: Encyclopaedia of Islam. New Ed. VII: 98a. [↩]
- См.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М.: Изд. АН СССР, 1961. С. 106.[↩]
- »Что же в том, что это болезнь? – решил он наконец. – Какое до того дело <…> если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией…» [↩]
- Здесь, впрочем, различим также отголосок старого спора-соперничества францисканцев и иезуитов в России еще с петровских времен. [↩]
- Истоки францисканства. С. П.[↩]
- Большая Легенда, составленная святым Бонавентурой из Баньореджо // Истоки францисканства. С. 575 – 576. [↩]
- Вып. I. СПб., 1845. С. 75, 76.[↩]
- См., напр.: Цветочки славного мессера святого Франциска и его братьев. СПб.: Журнал «Нева», Летний сад, 2000. С. 25.[↩]
Статья в PDF
Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №1, 2007